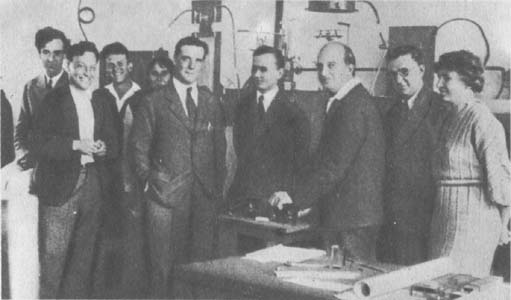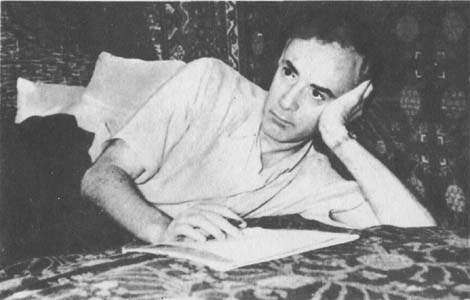БИБЛИОТЕКА «ЗНАНИЕ»
АННА ЛИВАНОВА
Ландау
Издание второе, дополненное
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЗНАНИЕ» МОСКВА 1983
ЛИВАНОВА Анна Михайловна, физик, писатель. Автор научно-художественных повестей и рассказов «Три судьбы», «Постижение мира», «Физики о физиках», «Л. Д. Ландау», переводившихся на многие иностранные языки.
Книга о Л. Д. Ландау на конкурсе Всесоюзного общества «Знание» в 1979 году удостоена диплома 1-й степени и премии.
СОДЕРЖАНИЕ
ГОДЫ, ГОРОДА, ИНСТИТУТЫ...
В Копенгагене у Бора и в других научных центрах
Москва, Институт физических проблем
ШКОЛА ЛАНДАУ
ТЕОРИЯ СВЕРХТЕКУЧЕСТИ ЖИДКОГО ГЕЛИЯ
Низкие температуры, абсолютный нуль и квантовая механика
Капица изучает поведение гелия II и открывает сверхтекучесть
Ландау привлекает квантовую механику — физику микромира, чтобы объяснить события в макромире
Ландау строит энергетический спектр гелия II
ВМЕСТО ЭПИЛОГА: Ландау вне физики
ПРИЛОЖЕНИЕ
Академик Е. М. Лифшиц. Живая речь Ландау
Ландау — один из самых выдающихся наших ученых. Кроме того, он был и остается личностью, возбуждающей всеобщий интерес. Так получилось, что высокий уровень творчества Ландау стал и моральной высотой. Это отчетливо ощущалось прежде всего в среде ученых, особенно физиков, но, как и всякое большое явление, оказывало воздействие на общество в целом.
Ландау сыграл огромную роль в становлении теоретической физики в нашей стране. Он, отмечают его ученики, не занимался общечеловеческими этическими проблемами как таковыми. Но был в нем высочайший нравственный потенциал. Ландау создал стиль истинного отношения к науке и всегда стоял на страже самой высокой принципиальности. В этом решительно никому никаких поблажек не давалось. Все по гамбургскому счету. Оценка каждой работы определялась одним — ее «настоящностью». Ландау не терпел и не допускал подхалимства. Но и дружеские отношения, привязанности не могли изменить систему оценок.
Элементарное, упрощенное доступно гораздо большему числу людей, чем сложное, отвлеченное, требующее усилий для постижения. Однако первое имеет своих адептов, нередко воинствующих, а случается, и наделенных немалой властью. Простое легко сделать понятным, а значит, и заручиться поддержкой в борьбе за него. А недоступность сложного всегда соблазнительно объяснить его неправильностью, надуманностью, и тем самым собственное непонимание выдать за подвиг блюдения истины и чистоты.
Может быть, особое значение Ландау, особое место его в нашей памяти объясняется тем, что своими работами, самим существованием и деятельностью, своими и своей школы, он поднимал уровень интеллектуальной требовательности и интеллигентности в науке и во всем, что связано с нею. Человек, как кажется некоторым, далекий от вопросов морали, он благодаря своей чисто научной, профессиональной работе стал неким нравственным эталоном. Не будем сравнивать масштабов, но как, думая о Пушкине, нельзя похвалить дурное в поэзии, оправдать в ней низкое и подлое или даже просто бездарное, так и, думая о Ландау, нельзя этого сделать в физике, да и вообще в науке.
Всей своей деятельностью Ландау, по существу, защищал физику от ее снижения, приземления, защищал в ее самой совершенной сути. Устойчивость здания, которое он построил, ощущалась даже теми, кто никогда в этом здании жить и не помышлял. Она вдохновляла и всех, кто боролся за высокий уровень и за совершенство в других областях науки и культуры. Ведь движение мысли сродни движению жидкости в сообщающихся сосудах.
Подлинная наука нравственна по своему существу. Потому что девиз ее и принцип — спрашивать природу, а не навязывать ей желаемые или угодные нам решения. Еще Лобачевский полтора столетия назад в актовой речи «О важнейших предметах воспитания», которую он держал перед выпускниками Казанского университета, с убежденностью повторил призыв Бэкона: «Спрашивайте природу, она хранит все истины и на вопросы ваши будет отвечать вам непременно и удовлетворительно».
Таков один путь в науке, один подход к изучению природы, к взаимоотношениям с ней. Но есть и другой, весьма отличный, даже противоположный подход. И оба они прослеживаются на протяжении веков. Этот второй подход можно назвать «алхимическим». Алхимики требовали от природы золота. Потом другие «ученые» этого толка стали требовать от нее других благ. Но всегда — требовали, всегда это был «волевой» подход, как принято нынче говорить.
Настоящего ученого отличает еще и умение «спрашивать природу». В этом заключен его талант, гений. Такой талант дан немногим. Так же, как мало кому дано быть выдающимся писателем, художником, композитором. Вот почему каждую эпоху в истории интеллигенции определяют обычно несколько человек, несколько имен.
Те, чья работа, чье творчество стоят на высоком уровне и преследуют только поиски правды и отстаивание ее — все равно в какой области духовной жизни, в науке ли, в литературе, в педагогике,— именно они становятся совестью общества и мерилом его духовных возможностей.
А когда они при этом и не одиночки, а ведут за собой других людей, своих учеников, воспитывают их в тех же принципах, роль их и ценность особенно значительны. Потому-то существование и деятельность Ландау и его школы стали противодействием вульгаризации науки.
Деятельность Ландау вполне осязаемо воплощалась в главном, в том, что он внес в физику: собственные работы; создание школы и работы его учеников; курс теоретической физики, книги которого стали настольными у всех физиков мира. В свою очередь, за словами «школа Ландау» стояло большое, разностороннее содержание. Оно охватывало и теоретический семинар, превратившийся в постоянно действующий форум физиков-теоретиков, и теорминимум — программу подготовки квалифицированного современного физика-теоретика, и в то же время барьер, преодолеваемый лишь сильнейшими.
Ландау был глубоко озабочен развитием физики в нашей стране. И чувствовал лично себя по-настоящему ответственным за это. Такая гражданская позиция на протяжении всей его жизни получала реальное воплощение. Так, помимо создания собственной школы теоретической физики, Ландау был одним из инициаторов организации Московского физико-технического института — учебного заведения, построенного на передовых принципах, на тесной связи с наукой сегодняшнего дня. Он принимал самое деятельное участие в рождении Физтеха, а потом все годы читал там лекции.
Он задумал написать курсы физики разной степени сложности, чтобы по ним могли учиться все — от школьников до теоретиков высокого класса. Он разработал принципы математических курсов специально для физиков. Не все из задуманного успел он осуществить, хотя очень многое успел.
Но при этом не было у Ландау никакого антуража значительности и возвышенности. Наоборот. На юбилее — празднике пятидесятилетия — А. И. Шальников назвал его «самым не важным человеком».
О нем постоянно ходили анекдоты и рассказывались забавные истории — думается, при его вполне благосклонном к тому отношении. Он сам любил навешивать на себя ярлыки и придумывать всяческие вывески. Так, в начале тридцатых годов к дверям своего кабинета он пришпилил бумажку: «Осторожно, кусается». А в сороковых уже частенько повторял: «Я теперь стал христианином. Я больше никого не ем». Доля истины в этом была. Он действительно несколько помягчел, стал менее язвительным, менее воинственным в своих оценках. Но только лишь по форме. Поэтому едва ли стоило слишком всерьез принимать эти слова. Так же как и его нередкие и вроде бы искренние уверения, что он-де трус,— настолько это не совпадало с его поведением.
П. Л. Капица вспоминал: «Рассказывая о научной работе или об ученых, Ландау всегда готов был дать свою оценку, которая обычно бывала остроумной и четко сформулированной. В особенности остроумным Ландау был в своих отрицательных оценках. Такие оценки быстро распространялись и, наконец, доходили до объекта оценки. Конечно, это усложняло для Ландау взаимоотношения с людьми, в особенности когда объект критики занимал ответственное положение в академической среде».
И в своих письменных отзывах Ландау бывал достаточно резок, а не только лишь корректно принципиален. Может быть, отношение Ландау к другим физикам, и прежде всего, конечно, к теоретикам, определялось главным образом и сильнее всего некоей корреляцией между их, так сказать, абсолютной ценностью,— причем Ландау, естественно, применял свою собственную шкалу, где критерии были очень высокими,— и их самооценкой. Чем большими оказывались тут «ножницы» — опять же на взгляд Ландау,— тем язвительней и непримиримее он становился. Если взять за параметр эту «научную ценность по Ландау», то получается довольно четкая закономерность. Когда данный человек оценивал себя как физика так же, как его оценивал Ландау — небольшой разброс, естественно, допустим,— тогда все в порядке, была основа для нормальных, хороших, уважительных отношений. Если же кто-то считал себя непризнанным гением или, чаще, был убежден, что его высокое звание адекватно его научным заслугам, а Ландау полагал эти заслуги куда как скромными, то он уже не стеснялся высказываться и делал это с немалым удовольствием.
К ученикам своим и единомышленникам он тоже бывал всегда строг, даже придирчив. Бытовавшее выражение «пробить через Ландау» говорит само за себя. Но уж то, что удавалось «пробить», было безукоризненно.
Конечно, нелепо считать, что для людей близких, друзей и учеников, прочих физиков и нефизиков, с кем больше или меньше общался Ландау, он был некоей абстракцией — идеальным носителем высоких качеств.
Прежде всего он был живым человеком с весьма своеобразным характером. Вероятно, каждый большой ученый неповторим и как человек. Может, в Ландау своеобразие особенно бросалось в глаза — в чем-то он был экстравагантен «сверх нормы». Он был незаурядной и неповторимой личностью — знаменитым «Дау». Те, кто его любил, любили этого, вполне конкретного Дау. И спасали они после автомобильной катастрофы тоже своего Дау, а не некую абстрактную ценность. Но, может быть, неявно, не выражаемое словами присутствовало и осознание его абсолютной ценности, роли его в нашей жизни.
Вероятно, эту его роль инстинктивно чувствовали даже те, кто не имел, да и не мог иметь представления о работах Ландау. Иначе откуда тот широкий, захвативший массу людей и при этом какой-то очень личный интерес к его судьбе, который стал таким осязаемым после катастрофы, когда на него обрушилась беда, когда он погибал? Откуда постоянное волнение, тревога, с которой эти люди следили за его состоянием, то поддаваясь надежде, то со скорбью ожидая трагического исхода?
Эта книжка адресована и тем, кто воспринял трагедию Ландау как большую личную потерю. И тем, для кого анекдоты и забавные истории порой заслоняли главное в Ландау. И физикам, в частности его ученикам,— их оценки или их неодобрение больше всего страшат автора. А еще — молодежи; потому что хочется, чтобы имя Ландау, навечно остающееся в истории науки и всей культуры, ассоциировалось с живым человеком.
Это маленькая книжка. Особенно если сопоставлять ее со всей жизнью и творчеством Ландау. Здесь освещена лишь небольшая часть и того и другого.
Автору помогали в работе ученики Ландау и сотрудники по институту, друзья юности и родные; помогали воспоминаниями и советом. Понимая, что книгу, адекватную неповторимой личности Ландау, ученого и человека, под силу написать лишь большому художнику, они тем не менее не жалели своего времени, потому что даже самый несовершенный и неполный рассказ, если его постараться сделать правдивым, может принести хоть некоторую пользу. Автор здесь хочет сказать, что помнит все, что получил от каждого из своих собеседников. И не имея возможности всех назвать, выражает им свою самую глубокую благодарность.
«Я — поэт. Этим и интересен»,— сказал Маяковский.
Ландау — физик. Физик-теоретик. Во многом исключительный, не похожий на других. Этим и интересен. Поэтому нельзя писать о нем, не рассказав о сути его работ и не показав места их на всей огромной территории, именуемой «современная физика».
Как нельзя рассказывать о поэте, делая вид, что поэзия его существует от него отдельно, что о ней можно говорить, а можно и умолчать, отложить разговор до другого раза, так же нельзя рассказывать об ученом, сделав вид, что его работа, его наука есть нечто внешнее по отношению к нему, какая-то его одежда, которую можно снять, повесить в шкаф и забыть о ней. Или только упомянуть, что она существует; даже бегло, вскользь описать ее.
«В громадном здании физической науки для него не было запертых комнат». Так сказал академик Александр Александрович Андронов о своем учителе Леониде Исааковиче Мандельштаме. За плечами Мандельштама была тогда уже долгая жизнь в науке, и по работам его можно, вероятно, проследить, как он последовательно отпирал эти комнаты — одну дверь за другой.
Перед юношей, почти что мальчиком Ландау комнаты эти словно с самого начала были открыты настежь или сразу же распахивались, едва он к ним приближался.
Еще в тридцатые годы Ландау говорил: «Я один из немногих физиков-универсалов...» «Я — последний физик-универсал»,— сказал он после смерти Энрико Ферми. И это не было ни самомнением, ни только собственным его мнением. То же самое отмечали, подчеркивали и его коллеги — в разное время и по разным поводам. И у всех у них было редкое единодушие. Приведем несколько суждений, на этот раз даже не называя их авторов.
«Характернейшей чертой научного творчества Ландау является его широта, почти беспрецедентная по своему диапазону; оно охватывает собой всю теоретическую физику, от гидродинамики до квантовой теории поля. В наш век все усиливающейся узкой специализации расходились постепенно и научные пути его учеников. Сам же Лев Давидович объединял их всех, всегда сохраняя поистине удивительную заинтересованность во всем. В его лице ушел из физики, возможно, один из последних великих универсалов».
«Огромный творческий потенциал, широчайший диапазон интересов, редкий в наш век узкой специализации универсализм роднят Ландау по духу с великими людьми эпохи Возрождения».
«Буквально не сходя с места, не прибегая к литературным источникам, в любую минуту Ландау мог начать работу по привлекшему его внимание вопросу из какой угодно области теоретической физики».
«Только владея современным стилем, нашедшим такое яркое и законченное выражение в работах и курсе Л. Д. Ландау, можно остаться хозяином положения практически во всей теоретической физике. Можно сегодня заниматься теорией сверхтекучести, завтра квантовой теорией поля и послезавтра теорией металлов. Таким хозяином положения и является Л. Д. Ландау, и он же помог следовать по этому пути своим очным и заочным ученикам».
Цитирование можно было бы продолжить. Но ясно и так, что поле деятельности Ландау — почти вся теоретическая физика. Сильно сузить это поле — значит исказить образ Ландау-ученого. Потому что наряду с прочими особенностями в этом универсализме проявились его своеобразие, его особая одаренность.
Итак, остается повторить, теперь уже имея в виду Ландау, что в громадном здании физической науки все комнаты были ему открыты.
Крупный американский физик Н. Мермин так охарактеризовал научные труды Ландау: «Этот солидный том, «Собрание трудов Л. Д. Ландау», возбуждает чувства, подобные тем, которые вызывает полное собрание пьес Вильяма Шекспира или Кёхелевский каталог сочинений Моцарта. Безмерность совершенного одним человеком всегда представляется невероятной».
Но видна нам здесь и оборотная сторона медали. Как быть, если предмет и уровень трудов Ландау доступен лишь немногим? «Попытка дать представление нефизику о научном творчестве Ландау в коротких заметках — это попытка с негодными средствами. Она должна быть отвергнута с самого начала»,— решительно высказался Ю. Б. Румер, друг юности Ландау и его соавтор.
Казалось бы, тут можно ухватиться за спасительные слова: «короткие заметки». Но вот в физике, скажем, весьма относительны, а часто и бессодержательны определения, к примеру, малого и большого, краткого и долгого, короткого и длинного, если не указать, о каком процессе идет речь. И книжка может обернуться короткими заметками, невнятной скороговоркой, если завести речь обо всем — или о многом,— что Ландау сделал в науке.
Единственная общая черта, присущая работам Ландау,— это их первоклассность. В остальном же они отличаются друг от друга не одной только тематикой. Так, для решения одних задач Ландау создавал свой собственный, доселе не применявшийся метод. А в других привлекал идеи и методы из совершенно отдаленных, казалось бы, областей физики, никак с данной областью не связанных,— это тоже особенность его творчества.
За годы своей интенсивной работы Ландау решал и решил множество задач, среди которых были и узкие, ставшие ответом на какой-то частный, заданный физикой вопрос. Вот уж чего в нем никогда не было, это некоего «ученого снобизма» — стремления браться лишь за великие проблемы. Наоборот, он презирал такой подход к науке. И издевался над теми, кто поставил своей целью совершать великие открытия. Правда, с другой стороны, Ландау не уставал повторять, что работа обязательно должна вносить что-то новое, делаться чисто и на высоком уровне и не содержать бездоказательной болтовни — «филологии», по его любимому определению. «Ввиду краткости нашей жизни мы не можем позволить себе роскошь заниматься вопросами, не обещающими новых результатов»,— сказал Ландау в последней своей статье «О фундаментальных проблемах».
Иногда работа Ландау вливалась в обширное русло большой проблемы, которую сообща решало много теоретиков. В этом случае бессмысленно говорить о работе Ландау, не познакомившись со всей проблемой в целом.
Иногда работа Ландау была завершением или разрешением какой-то полемики, и тогда, чтобы понять ее и оценить, требуется знание позиций сторон.
Иногда его работа касалась некоторых сверхтонкостей, интересных лишь немногим, особых нюансов задачи, теории, постановки проблемы.
Так, действуя методом исключения, удается сузить круг работ, из которых мы выберем то, о чем можно попытаться рассказать популярно, причем, конечно, только на уровне идей.
Но ведь работы Ландау не состоят из одних идей, которые можно изобразить чисто словесно, не прибегая к математике. Наоборот, именно великолепное владение математическим аппаратом — главным орудием теоретика — особенно отличало Ландау и часто вызывало удивление и восхищение у тех, кто мог его в достаточной степени оценить. И в таком виртуозном и изобретательном применении орудий своего труда и заключалась собственно его работа (наличие идей подразумевается как само собой разумеющееся и, естественно, как необходимый фундамент).
Конечно, каждый серьезный физик-теоретик не может не владеть математическим аппаратом — это его обычное, нормальное, повторим, орудие труда. И страницы любой статьи теоретика в любом физическом журнале заполнены формулами и математическими выкладками. Но опытный глаз сразу оценит, что скрывается за математическими формулами. Богатое ли содержание: шаг вперед или новый подход к проблеме. А бывает и такое: он увидит, что вся эта якобы сложность маскирует идейную пустоту, тривиальность, «сотрясение воздуха», как любил говорить Ландау.
Наш рассказ пойдет, повторяем, «на уровне идей». Но все равно придется привлечь много новых и сложных понятий. И объяснить их физический смысл хотя бы «на пальцах».
В веселый юбилей Ландау, в день его пятидесятилетия, среди прочих остроумных подарков ему преподнесли мраморные «скрижали», на которых были выгравированы «Десять заповедей Ландау». Десять его формул, где, так сказать, материализовались десять важнейших, по мнению авторов подарка (скрижали вручил академик И. К. Кикоин от имени Института атомной энергии), работ — или открытий — Ландау.
Вероятно, это не абсолютное и не единственное истолкование вклада, который внес Ландау в физику. Здесь возможны некоторые разночтения. Но большая часть «заповедей» — это, бесспорно, важнейшее, что сделал Ландау. И выбирать надо отсюда.
Мы выбираем теорию сверхтекучести жидкого гелия. По следующим причинам.
Первая. Открытие это само по себе, по своей сути очень большое и важное. Им зачинается новая область физики — квантовая физика жидкостей или, шире, конденсированного состояния, или, что звучит уж вовсе удивительно, квантовая физика макрообъектов. Смысл, содержание всех этих разных терминов в том, что законами квантовой механики описываются не атомы, не атомные ядра, не элементарные частицы, для описания которых квантовая механика и была создана, так как классическая физика тут «не играла», а именно макросистемы, которые должны, „казалось бы, целиком подчиняться классическим законам. Правда,— и в этом все дело — эти макрообъекты находятся в особом состоянии.
Вторая. Работа эта, с одной стороны, как бы замкнута в себе и, раз поставленная, доведена Ландау, автором ее, до конца. А с другой стороны, она имела и имеет большое и важное продолжение. И выходы в совсем другие, далеко отстоящие области физики, такие, как атомное ядро, твердое тело и даже астрофизика.
Третья. Это тот случай, когда теория не только объяснила загадочные явления, которые поставили физиков в тупик и, казалось бы, не поддавались никакому объяснению, но и предсказала новые явления; потом эти последние были обнаружены экспериментально и повели себя в точном согласии с теорией.
Четвертая. В этой работе в самом чистом виде проявилось содружество Ландау с экспериментаторами, которое было весьма характерным свойством физика-теоретика Ландау.
Пятая. Эта работа занимает особое место в творчестве Ландау. Многие ученики его полагают, что теория квантовых жидкостей является главным делом его научной жизни. Кстати, так же оценила эту работу и мировая научная общественность. Ландау получает Нобелевскую премию «за пионерские исследования в теории конденсированного состояния материи, в особенности жидкого гелия».
Шестая. Хотя считается, что главное оружие Ландау — его логика, в данной, одной из самых замечательных его работ, проявились необычайно ярко научная интуиция и сила научного воображения.
Есть еще ряд причин, и последняя из них та, что эту проблему показалось возможным изложить более или менее понятно и последовательно. Повторяем, на уровне идей, но так, чтобы читатель-нефизик понял ее суть, красоту и значение.
Правда, тут нелишне пересказать разговор Ландау с одним из его учеников. Тот спросил:
— Дау, какую свою работу вы считаете лучшей?
— Теорию сверхтекучести,— ответил Ландау.— Потому, что ее до сих пор никто по-настоящему не понимает.
В этом, безусловно, была доля шутки, но какая?
Однако мы все же отважимся рассказать именно об этой теории. Начнем с азов, с предыстории и постепенно будем двигаться вместе с читателем вверх, со ступени на ступень...
Может быть, впоследствии кто-нибудь осуществит более обширную программу знакомства с творчеством Ландау. Например, появится подробный рассказ о его интересе к процессам перехода вещества из одного состояния в другое, к теории фаз и фазовым переходам, к диаграммам состояний. Интересе, который привел к созданию им теории фазовых переходов второго рода. При этом должно быть объяснено содержание этой теории, показано ее значение. И то, как и из чего она возникла. И связь ее с другими проблемами физики (кстати, как мы увидим, она внесла свою лепту и в теорию сверхтекучести).
Еще Ландау весьма занимала проблема симметрии: симметрия пространства; открытие Ли и Янга несохранения четности при слабых взаимодействиях; новые возникшие трудности, в стороне от которых не остался Ландау, и предложенный им в разрешение противоречия принцип комбинированной четности (этот этап тоже еще не был конечным, не стал полным решением проблемы).
Интересны и значительны работы по магнетизму, в том числе одна из ранних, где было сделано открытие, пользуясь нынешней терминологией, «диамагнетизма Ландау».
И работы по физике ядра, и по физике плазмы, и по общим вопросам квантовой механики... «Заповедей»-то по меньшей мере десять.
ГОДЫ, ГОРОДА, ИНСТИТУТЫ...
Из Баку в Ленинград
Лев Давидович Ландау родился 22 января 1908 года в Баку. Отец, Давид Львович Ландау, инженер-нефтяник, происходил из состоятельной семьи. Когда родился сын, отцу было больше сорока лет, и он в то время занимал крупную должность главного инженера одного из бакинских нефтепромыслов. Мать, Любовь Вениаминовна Гаркави-Ландау, была на десять лет моложе своего мужа. Она выросла в бедной семье, но постоянным трудом, колоссальной настойчивостью и отличными способностями пробила себе дорогу.
Мать Ландау была душевно сильным и деятельным человеком; тем более решительным, чем труднее складывались обстоятельства. Всю жизнь она очень много работала. В 1898 году окончила Повивальный институт в Петербурге, шесть лет спустя — Петербургский женский медицинский институт. Во время учения работала в своем институте на кафедре физиологии, а после окончания — помощником проректора. Потом Л. В. Ландау — врач в больнице, а во время мировой войны — ординатор в военном лазарете. Затем она стала преподавать, причем широкий круг дисциплин. Она занималась и практической лечебной медициной, и преподаванием, и научной работой. Подобная разносторонность интересов, знаний и умений отнюдь не обычна для женщин начала XX века. Мать Ландау, безусловно, принадлежала к женщинам незаурядным. Представляется, что именно ею заложены были в Ландау и его разносторонность, и его призвание быть не только ученым, но и педагогом.
Лев был вторым ребенком в семье, прежде него родилась дочь Софья. Школу он окончил в тринадцать лет. А интерес и способности к точным наукам, больше всего к математике, проявились еще раньше.
— Вундеркиндом не был,— так сказал о себе Ландау в беседе со студентами Физтеха весной 1961 года.— Учась в школе, по сочинениям не получал отметок выше троек. Интересовался математикой. Все физики-теоретики приходят в науку от математики, и я не стал исключением. В двенадцать лет умел дифференцировать, а в тринадцать — интегрировать.
Родители посчитали, что тринадцать лет — возраст слишком ранний для поступления в университет (да и выглядел Ландау тогда совсем маленьким мальчиком). И год он проучился вместе с сестрой в экономическом техникуме. Зато на следующую осень, в 1922-м, Ландау стал студентом Бакинского университета, причем сразу двух факультетов — физико-математического и химического.
Ландау говорил одному своему приятелю, что лет с девяти у него появилось стремление самому разобраться во всех вопросах, с которыми его сталкивала жизнь, И всюду находить свое решение. Раз найденное, оно потом почти никогда не пересматривалось. Речь тут идет, разумеется, о вещах чисто человеческих, а не о науке. И после в Ландау всегда поражало, что он ни одну самую обыкновенную житейскую коллизию не принимал так, как все. Он должен был ее переосмыслить и построить свою систему. Если не удавалось создать «теорию», то он довольствовался низшей степенью систематизации — классификацией. Отсюда постоянно повторяемая в рассказах о нем фраза: «Ландау любил все классифицировать». А началось это, оказывается, еще в первые школьные годы.
Шестнадцатилетний Ландау переезжает в Ленинград и поступает на физическое отделение Ленинградского университета.
— Здесь мне пришлось сделать выбор: я стал заниматься физикой, о чем до сих пор не жалею.
«Первый ленинградский период» жизни Ландау длился около пяти лет — до его полуторагодичной командировки за границу.
Ленинград двадцатых годов по праву можно назвать научным центром страны того времени, во всяком случае, если говорить о физике. Подробно и многократно описывались и мощнейшая школа экспериментальной физики, созданная А. Ф. Иоффе, и его другая, обширная и многосторонняя деятельность, в том числе и чисто организационная,— создание новых институтов и лабораторий, расселение их по всей стране. И та своеобразная обстановка и научный быт, которые сопутствовали этой работе, тоже широко известны. Правда, как справедливо замечает П. Л. Капица, старшими — по возрасту, опыту, положению — были только экспериментаторы, прежде всего Рождественский и Иоффе, а выдающихся ученых, способных создать школу современной теоретической физики, тогда в Ленинграде не было.
Работали там еще первоклассные математики Стеклов и Марков и талантливые ученики австрийского физика Пауля (он же Павел Сигизмундович) Эренфеста — Бурсиан, Крутков, Фредерикс, но они занимались преимущественно классической физикой или, как Фридман, теорией относительности; помимо Я. И. Френкеля квантовой механикой интересовалась только молодежь.
Зато студенты стали подбираться очень сильные. В то время чисто физический факультет (или, как его сначала называли, отделение) Ленинградского университета был в стране единственным, потому что даже в крупнейшем Московском университете существовал объединенный физмат. Этот факультет возник потому, что физик Рождественский и математик Смирнов осознали и решили: физикам и математикам в будущей их работе понадобятся не одна и та же, а «разные математики» и соответственно их надо по-разному обучать. '(Потом эту идею также стал разделять и воплощать в жизнь Ландау.)
Режим и образ жизни студентов были весьма вольными.
— На лекции в университет ходил два раза в неделю, чтобы встретиться с друзьями и посмотреть, что там делают,— рассказывал Ландау.— Но самостоятельно я занимался очень много. Так много, что по ночам мне начинали сниться формулы.
Вообще учились тогда своеобразно, совсем не так, как учатся студенты сейчас. На лекции ходили или не ходили — сообразуясь исключительно с собственными желаниями и интересами. Различные предметы с разных курсов изучали вперемежку, вперемежку же сдавали экзамены (или не сдавали вовсе), так что большинство студентов просто не могло бы ответить, на каком курсе учится каждый из них. Чаще всего они пребывали одновременно на двух или даже на трех курсах. Экзамены сдавались, по существу, круглый год, в любом порядке и последовательности. Каков этот порядок — никого не интересовало, можно было сначала сдавать какие-то предметы за четвертый курс, а потом за первый. Дело студента было только самому подойти к профессору и договориться о сдаче.
Но не надо забывать, что тогда учиться в университеты шли те, кто вовсе не жаждал легкой жизни, готов был на лишения и больше всего интересовался наукой.
В воспоминаниях о давних временах довольно обычны некоторые «разночтения». Однако те годы, та бурная студенческая жизнь настолько запечатлелись в памяти всех участников, что воспоминания их не противоречат друг другу, а, напротив, складываются в одну картину. На этих страницах предстанет лишь бледный эскиз этой картины, но правдивые детали ее автор возьмет из многих воспоминаний и прежде всего — из наиболее подробных рассказов Андрея Ивановича Ансельма, Евгения Ивановича Совса, сестер Евгении Николаевны и Нины Николаевны Канегиссер, Владимира Абрамовича Тартаковского. И раз уж речь идет о деталях картины, может быть, и не так важно, в какой последовательности будут наноситься мазки...
Вот портрет Ландау тех лет, даже не столько человека, сколько физика:
— Дау помню юношей с ужасно одухотворенным лицом, неприлично молодым,— рассказывает Ансельм.— Помню только один случай — за всю жизнь! — когда Дау у кого-то что-то спрашивал, что-то не понимал.
— Мучался я с какой-то задачей по механике,— вспоминает Евгений Иванович Совс.— Заходит Дау и спрашивает, в чем дело. Я отвечаю, что никак не получается задача. Дау при мне последовательно проделал все вычисления, и тут и меня осенило. Тогда я впервые ощутил всю силу его ума. Крупный ученый, который вел курс, не мог нам объяснить, насколько это просто, а у Дау все получилось мгновенно. Он сразу лез в суть вещей. В последующие годы у него появился талант так же быстро улавливать и вскрывать чужие ошибки.
Похожий эпизод запомнился и Евгении Николаевне Канегиссер:
— Я должна была делать доклад, но никак не могла разобраться в материале. Побежала к Дау и говорю ему: «Ничего не понимаю, по-моему, это чепуха». А Дау отвечает: «Это же Гиббс. Статистика Гиббса». И за полчаса рассказал всю статистику Гиббса. И все ее значение. Было ему тогда лет 19—20...
А вот заниматься экспериментом Ландау органически не мог, эксперимент ему не давался. На первых трех курсах полагалось сдать три лаборатории. Сначала механику и молекулярную физику. Потом, на втором курсе, электричество и оптику (эту лабораторию вел сам Дмитрий Сергеевич Рождественский, крупнейший наш оптик тех времен). В этих обеих лабораториях надо было сделать около 25 задач. Третья лаборатория была соответственно на третьем курсе. Она состояла из шести задач, но более сложных — фотографирование спектров и тому подобное; каждую задачу следовало сделать в течение недели.
По-видимому, как-то, с грехом пополам, Дау перевалил через первые две лаборатории, а третью никак сдать не мог. Товарищи его разводили руками, не представляя, как помочь. Потом сообща отправились к декану и говорят:
— Что делать? Есть у нас такой гениальный юноша, но сдать третью лабораторию никак не может.
— Пусть он тогда вместо этого сдаст два математических курса за математический факультет,— решил декан.
Не прошло и двух недель, как оба курса были сданы.
«Чистый теоретик» прорезался в Ландау очень рано. Поэтому и на семинарах — в отличие от лаборатории — он всегда чувствовал себя сверхсвободно, легко вступал в полемику с кем угодно, в том числе и с руководителем. Семинар вел тогда Владимир Александрович Фок, который был всего на несколько лет старше своих студентов. И в спорах с ним Ландау нередко оказывался прав. . ...А потом Ландау идет сдавать Фоку экзамен. Естественно, что Фок ничего не спрашивает, не считает нужным принимать экзамен, а просто берет зачетную книжку и расписывается в ней. Потому что при таком уровне студента экзамен превращается даже не в формальность, а просто в анекдот.
Владимир Александрович Фок был физиком с резко выраженными математическими способностями, с математическим складом ума и отличался крайней изобретательностью в решении сложных задач. В 40 лет он уже стал академиком и впоследствии совместно с Капицей был инициатором избрания Ландау в Академию наук. Был он человеком не без юмора, но остроумие свое демонстрировал редко — в отличие от Ландау и его товарищей, из которых оно било фонтаном, даже стало, скажем так, формой и стилем их существования. Уже много позже, когда Фок потерял слух, его «тихое остроумие» частенько проявлялось в том, что на всяческих собраниях и заседаниях, когда ему становилось скучно или раздражало то, что говорил очередный оратор, он выключал слуховой аппарат и таким образом с невинной улыбкой выходил из несимпатичной ему игры.
В 1926 году, еще будучи студентом университета, Ландау становится, как тогда называлось, сверхштатным аспирантом Ленинградского физико-технического института и публикует свою первую научную работу. Не возбранялось и это — «состоять» одновременно и студентом и аспирантом, причем по одной и той же специальности.
Опять же из-за того, что в полную меру действовал этот «принцип неопределенности», трудно разделить все воспоминания — и те, которые здесь уже приводились, и те, что будут впереди,— на студенческие и послестуденческие.
С достоверностью можно лишь сказать, что Ландау окончил университет в 1927 году, когда ему исполнилось девятнадцать лет, и стал уже штатным аспирантом того же Ленинградского физтеха.
Он с жадностью набрасывается на физическую литературу, читает еще «горячие» работы по квантовой механике, переживающей в ту пору бурное свое рождение, все статьи, только-только выходящие из-под пера их авторов — создателей физики микромира.
Именно это время имел в виду Ю. Б. Румер, когда говорил, что самое поразительное в Ландау— как он начал свой самостоятельный путь. Квантовая механика только создавалась, появлялись оригинальные статьи, в одних были великие идеи, в других чушь, но никто не мог подсказать Ландау, как отличить одни от других. Он делал это сам, сам в них разбирался, сам их отбирал. Потом он занимался этим всю жизнь, но удивительно, что он мог это делать даже мальчишкой. Он рос с каждой статьей. Появилась первая работа Шредингера, вторая... По всем этим работам, по этим датам можно проследить, как и когда формировалось научное мировоззрение Ландау, как сам он рос, впитывал в себя новые идеи и вырабатывал свое к ним отношение.
Слова Румера имеют вполне «материальное» подтверждение: в тот свой «первый ленинградский период» Ландау написал и опубликовал две статьи, относящиеся к квантовой, или, как ее тогда часто еще называли, волновой, механике. Первую в 1926 году (она уже упоминалась) : «К теории спектров двухатомных молекул» и вторую в 1927-м: «Проблема затухания в волновой механике».
В его научном наследии почти нет неправильных или устаревших работ. Примечательно, что и две самые первые не потеряли значения. Ими открывается двухтомник научных трудов — опубликованный посмертно, но составлявшийся еще при жизни Ландау,— собрание, в основу которого положен принцип: публиковать только то, что сохранило свою ценность.
Однако слова Румера нуждаются в существенной поправке. Ландау был в те годы вовсе не один и не в одиночку формировал свое научное мировоззрение. Рядом с ним и на довольно близком уровне находились и другие молодые теоретики. Это была тесная компания, объединенная общими интересами. Тон в ней задавали трое: Ландау, Гамов и Иваненко, потом к ним присоединился Бронштейн. Они себя называли «джаз-бандой», но, по свидетельству их товарищей, им куда больше подходило прозвище «физических мушкетеров», потому что основным смыслом и содержанием их жизни были занятия физикой и борьба за физику.
Каждого из них тоже наделили прозвищем, а чаще — именем, производным от своего собственного. Вот тогда-то Ландау и стал Дау; это имя он пронес через всю жизнь. Так звали его все сколько-нибудь близкие ему люди, в том числе и его ученики; и для него самого оно стало привычнее и любимее всякого другого. Георгий Гамов был Джонни, он же — Джорджи, он же — Кит. Дмитрий Иваненко — Димус. Матвей, или Митя Бронштейн, стал почему-то — никто точно не может сказать, почему — называться «Аббат». Прозвищами награждали и старших физиков. Когда Нина Канегиссер, самая молоденькая в этой компании, заявила, что довольно прозвищ, не пора ли повзрослеть, и предложила перейти чуть ли не на имена-отчества, то Дау немедленно придумал термин «нинизм» — что означало желание быть важным и солидным.
Но забавы эти были так, между делом. Главное — физика, она занимала их больше всего на свете. Где бы и когда бы они ни собирались вместе, сразу же начинался долгий, а часто и весьма темпераментный разговор все на ту же тему. Утро, вечер, день, ночь — все равно:
Длительны прогулки по аллеям
В Летнем фантастическом саду.
Димус проповедует Рэлея,
Женя засыпает на ходу.
Это, можно сказать, «автопортрет на фоне белых ночей», который живописала Женя Канегиссер, сочинявшая стихи молниеносно и по любому поводу.
Все они были очень остроумны, жизнерадостны, веселы, отличались крайним свободомыслием и уверенностью в том, что решение любых вопросов надо искать без предварительных условий и без шор. Такая позиция, случалось, создавала им немалые трудности в работе, да и в жизни тоже.
Уже говорилось, что то были самые бурные годы в физике — становление квантовой механики. Ландау и его друзья прямо на ходу усваивали новые идеи — в этом они ушли далеко от остальных в своей компании — и товарищам их казалось, что по своему внутреннему ощущению они воспринимают себя неким подобием ни много ни мало группы Дирака, Шредингера, Гейзенберга. Естественно, вслух такое не произносилось, но мысли бродили у них в головах самые смелые. Ведь были они максималисты, и были молоды — все еще маячило впереди — и верили в себя, в свои силы. Во всяком случае — вот об этом говорилось достаточно много, и открыто, и громко — они ставили себе целью вывести нашу физику вперед. Им было надо, чтобы новые, переворачивающие классические представления идеи получили у нас признание и понимание; и чтобы наши физики овладели умением работать в новой области; и чтобы работы их находились на должном уровне — в то время еще не существовало выражения «высшие мировые стандарты», но смысл был именно таким.
Потому они так активно, и постоянно, да и весьма громогласно боролись за физику, которую считали передовой, настоящей — и в сути этой борьбы с ними нельзя не согласиться,— но боролись теми способами, которые им больше всего импонировали: криком, грозными обличениями, ядовитыми шутками, розыгрышами. Все было очень всерьез по существу, а часто и небезобидно по форме. Они не щадили никого, в том числе и друг друга. Залпы критики направлялись во все стороны, и тем охотнее, чем крупнее была «цель».
Местом розыгрышей и шуток становились даже научные семинары, «понедельники». Это были еженедельные общефакультетские семинары, в которых участвовали и студенты, и преподаватели. Начинались они в семь часов вечера, чтобы участники успели после занятий сходить домой и поесть. А семинарским днем был выбран понедельник, когда не работали ни театры, ни кино. Это мудрое решение оберегало студентов от соблазна «смываться» и обеспечивало им всевозможные развлечения в остальные дни. Впрочем, как будет видно, они не упускали случая повеселиться и на самом семинаре.
Вообще-то на этих собраниях в основном реферировались статьи — по всем разделам физики. Через несколько лет тот же принцип работы положил в основу своих теорсеминаров Ландау. Но, конечно, никто и помыслить не мог «оживлять» их таким способом, какой позволял себе он сам и его друзья.
Ландау хвалился, что может сделать доклад на любую тему, хоть на такую — влияние солнечной радиации на задние спицы колесницы... Однажды он прочел блестящий доклад о каких-то новых проблемах физики. Ему задавали вопросы, были жаркие прения. А потом Дау признался, что никаких таких проблем и работ нет — просто он все придумал. Он уже был на таком уровне, что мог не только мистифицировать, но и сохранять при этом стиль автора — кого-нибудь из корифеев.
А на другом семинаре Ландау объявил, что только что прочитал в «Нейчур» сенсационную статью (он назвал имя крупного американского физика, специалиста по космическим лучам). Оказывается, космические лучи идут не откуда-нибудь, а из туманности Андромеды.
— Я же говорил, я же говорил,— в восторге хлопая себя по колену, восклицает один из руководителей семинара.
— С первым апреля,— с лучезарной улыбкой поздравляет его Дау: дразнить начальство составляло для него особое удовольствие.
В связи с этим эпизодом Андрей Иванович Ансельм сделал, как он выразился, приоритетную заявку. Он сказал, что традиция считать 1 апреля праздником ленинградских теоретиков родилась в том доме, где он жил. Снимал он комнату, маленькую, за 17 рублей, причем у некоего графа. В доме этом был огромный зал для танцев, в углу стоял рояль. Несмотря на то что очаровательная графиня в это время разводилась со своим графом, весь стиль и уклад жизни выдерживались неизменными. Так, один день семья говорила по-французски, другой — по-английски, третий — по-немецки; каждый третий день Ансельм принимал участие в общих разговорах.
Однажды на 1 апреля зал был отдан Ансельму и его друзьям. И кому-то пришла идея: если 1 апреля все лгут и друг друга обманывают, то они, наоборот, устроят день обнаженной откровенности. Дурачились, веселились до утра и говорили друг другу все, что думали. Но оказалось, что не просто веселились и дурачились — на следующий день было трудно смотреть друг другу в глаза. Однако все уже было сказано и все были свидетелями. Тогда-то и учредили «день теоретика»: другие в этот день лгут, а теоретики говорят друг другу правду. На следующий год это повторилось, а потом уже стало традицией.
Как всегда, было здесь что-то в шутку, а что-то всерьез. Однажды в этот день кто-то стал распространяться по поводу какого-то физического вопроса. Ему закричали:
— Замолчи! Ты все равно никакой правды про науку сказать не можешь!
Так первоапрельский «день теоретика» перекочевал и на семинары. Естественно, Ландау не упустил шанса, когда этот день совпал с очередным понедельником. На этот раз он сделал сообщение об искусственном ускорении радиоактивного распада. И опять, хотя каждый школьник знает, что радиоактивный распад ни ускорить, ни замедлить нельзя, речь Ландау прозвучала так убедительно, что раздался ликующий крик:
— Я это говорил! Я это говорил!
А когда Ландау поздравил всех с первоапрельской шуткой, то поднялся страшный шум и кто-то даже предложил побить виновника.
Но 1 апреля, как известно, случается раз в году. Зато эта компания регулярно выпускала рукописный журнал под названием «Physikalische Dummheiten», что буквально означает «Физические глупости», но лучше, придерживаясь стиля авторов, перевести как «Чушь физическая». Там обличались вся и все, в основном старшие. «Physikalische Dummheiten» читались и на физическом семинаре, причем авторы никому предварительно номер журнала не показывали, так что содержание его каждый раз было неожиданным для присутствующих.
В 24—25-м годах в газете «Вечерний Ленинград» печатался с продолжением роман М. Шагинян «Месс-менд», где главным героем был Джим Доллар. Теоретики тут же откликнулись и начали писать свой роман-пародию «Пит Стерлинг», но для «домашнего употребления», переиначивая все на свой лад и особенно заботясь о портретном сходстве героев с ленинградскими физиками.
Атмосфера, стиль существования этой молодежи были такими, что жизнь их просто не мыслилась без постоянно изобретаемых шуток.
Не во всех проделках принимал участие Ландау, прежде всего потому, что больше других был занят наукой, жалел время...
Когда собираются вместе незаурядные личности, то естественно, что помимо общей компанейской жизни каждый из них живет еще и своей собственной. И в этой компании, такой по видимости, да, пожалуй, и по существу тесной, все были очень разными. Потом эти различия — во вкусах, в принципах, в позиции и даже в интересах — обернутся уже расхождением. И расхождение, или, воспользуемся физическим термином, дивергенция, а также бурное время уведут их далеко друг от друга. Но это будет потом...
А пока еще силы притяжения существенно больше сил отталкивания, пока очень многое связывает их. Прежде всего, увлечение физикой, затмевающее остальные их интересы. И общее стремление к активности и независимости. И свойственное молодости отрицание авторитетов. И в немалой степени общность быта.
Почти все они были приезжие, снимали комнаты, жили по разным углам. Кстати, место, где поселился Ландау, так и называлось «Пять углов». Правда, это были другие углы: пересечение нескольких улиц образовало небольшую площадь, которую ленинградцы и назвали «Пять углов». Ландау приютила его родная тетка Мария Львовна Брауде. Комнатку ему отвели рядом с кухней, очень темную, маленькую, метров семь-восемь; вероятно, раньше это была комната для прислуги. Но зато он жил все-таки у родных, где его поили и кормили, ведь приехал он в Ленинград шестнадцатилетним мальчишкой. Две другие комнаты занимали хозяева, а четвертую они сдавали студентам.
В то время комнаты студентам сдавали охотно — это освобождало от платы за дополнительную площадь. Сначала такса была 10 рублей в месяц. За эту сумму жилец пользовался кипятком — утром и вечером, водой, электричеством и не должен был сам заниматься уборкой. Потом плата повысилась до 16 — 17 рублей. А бюджет каждого был около 50 рублей, комната «съедала» примерно треть.
Под стать далеко не сытому существованию и одежда у них, в большинстве своем приехавших с юга, была не по ленинградским морозам. Гамов, намерзшись — он вообще бедствовал больше других,— одолжил у своего более предусмотрительного и запасливого товарища Андрея Ансельма кожаную куртку на байке и проходил в ней всю зиму. Так как был он очень большой, высокий — что странно сочеталось с тоненьким его голосом,— то куртка, не выдержав, расползлась по швам. И у Ландау первое зимнее пальто появилось не сразу.
— Очень милая кошка,— с гордостью говорил он, поглаживая свой воротник. А до этого ходил, коченея от холода, и из рукавов торчали синие замерзшие руки.
Собирались они — и для общения, и для занятий — большей частью в одной библиотеке, где, как писала Женя, «тепло... уют... там теоретиков приют». Конечно же им, оторванным от семьи и дома, не хватало тепла — и в прямом и в широком смысле слова. Поэтому они так тянулись к дому и семье их подруг Жени и Нины.
Этот дом на Моховой все вспоминают с нежностью и, словно сговорившись, употребляют один и тот же эпитет: прелестный. Семья жила на последнем этаже; весной и летом вся компания поднималась на плоскую крышу и развлекалась там. Отчим девушек, Исай Бенедиктович Мандельштам, был по профессии инженер-электрик. Но гуманитарный склад ума, интересы, общая культура, знание языков привели к тому, что он стал известен как отличный переводчик Бальзака, Келлермана и других французских и немецких авторов. Он был обаятельный, умный, доброжелательный человек, охотно общался с молодежью и совсем ненавязчиво, незаметно завлекал ее в «тенеты» литературы и искусства. Благодарность к нему и сейчас живет в тех, кто остался от этой компании: «Мы все, и Дау тоже, очень многим ему обязаны». Под стать ему, прелестным и незаурядным человеком была и мать Жени и Нины. А сама Женя (Нина, как младшая и нефизик, находилась чуть «сбоку» от их компании) принадлежала к тому типу обаятельных девочек, которые становятся притягательным центром благодаря живости ума, остроумию, абсолютной нетривиальности всего своего существа. Она была так очаровательна, что все забывали ее некрасивость. К тому же — очень талантлива, очень активна; была она страшно громогласна и одновременно страшно писклива. Через несколько лет, когда Женя выйдет замуж за их общего друга австрийского физика Рудольфа Пайерлса, она расскажет ему в одном из писем: «Дау лежал у меня в объятиях в восторге, что я еще визжу, что у меня красивое пальто и красивая сумочка, что я не посолиднела и не испортилась».
В их компании Женя была «придворным поэтом» — все события описывались в стихах и поэмах, сочиняемых тут же, на ходу, независимо от величины. Но главное, она знала наизусть множество хороших стихов — в этом равных ей не было. Поэтому когда ее познакомили с Бронштейном, она, по ее словам, пришла в восторг: «Вот кого я нашла!» Оказалось, что Аббат ее «переплюнул», знал стихи, неизвестные даже ей.
В этом же доме на Моховой все они познакомились с Ираклием Андрониковым и до сих пор вспоминают, как Ираклий изображал известных им физиков и актеров; особенно хорош у него получался Москвин, один из корифеев МХАТа. Похоже, что этот дом стал чуть ли не первой аудиторией Андроникова.
Как и другие, Ландау бывал там довольно часто и, надо сказать, с завидным постоянством шокировал «взрослых» гостей своими выходками.
— Не выпускайте его, держите под замком, он облаивает моих гостей,— говорила Жене и Нине их мать.— Может быть, он гений, но гостей нельзя облаивать.— Однако сама относилась к нему с нежностью, очень жалела его, когда он озябший появлялся у них в доме.
Впрочем, его любили все интеллигентные женщины, он вызывал у них материнские чувства; одним хотелось его накормить, другим — одеть потеплее, третьим — утешить и успокоить. Анна Алексеевна Капица, у которой в молодости были весьма сдержанные отношения с Ландау («Мы часто пикировались и подъедали друг друга»,— говорит она, вспоминая пребывание Ландау в Кембридже), рассказывала, как жена Нильса Бора Маргарет убеждала ее, что она не поняла Дау и неправильно, несправедливо к нему относится. Маргарет говорила, какой он добрый, тонкий, мягкий, с большой душой и притом — ранимый, беззащитный. Примерно так же отзывалась о нем и ленинградская актриса Клавдия Васильевна Пугачева, «Пуговка», как называл ее в те годы Дау.
Что касается «облаивания» гостей, то поводов для этого набиралось много, а причина была одна — неистовая борьба Ландау с «мещанством». Слово это взято в кавычки по той причине, что Дау понимал его чрезвычайно широко и в таком расширительном толковании преследовал и обличал сей порок где и как только мог.
К этой позиции надо прибавить его эмоциональность — он был человеком сильных страстей и ненавидел мещанство больше всего, да и, скажем так, громче всего. Корыстолюбие, стремление к богатству и сытому благополучию, во имя которых жертвуют честью, порядочностью, профессиональными интересами,— такое неизменно вызывало у него яростное осуждение. Да и просто выпячивание на первый план забот о материальных благах, пусть оно даже не сопровождалось ничем предосудительным, все равно было ему противно.
В юности максимализм нередко принимает форму «ультра»... «Удивительно был воспитанный человек»,— подчеркнул в своих воспоминаниях поэт Д. Самойлов, познакомившийся и подружившийся с Ландау в конце 40-х годов. Но еще гораздо раньше начал расставаться Ландау с детскими выходками, менять стиль поведения.
«Дау ужасно «огалантился» за границей,— писала Женя своему мужу Руди Пайерлсу,— раньше он и не подумал бы взять цветы, а теперь даже пальто носит. Правда, пищит, но носит. Но «дам» до дому еще не провожает, он вылез на своей остановке, а я поехала до Кирочной». . . ..
Та же Женя рассказывала, как она пыталась привлечь внимание Дау — чтобы подразнить его — к своему обручальному кольцу: «Кольца он, конечно, не заметил, несмотря на то, что я чуть не повесила его на его собственный нос». И в следующем письме: «Да, кольцо он наконец увидел, но для этого Нине пришлось сказать: «Женюк, сейчас уронишь кольцо». Дау вскричал: «Как, ты носишь кольцо? Вульгарность, мещанство, позор» и т. д. Но довольно скоро успокоился».
Надо сказать, что в те молодые годы во все нерабочие часы жизни, когда мысли о физике или, точнее, когда непосредственные занятия физикой давали Ландау «отпуск», он редко находился в спокойном, уравновешенном состоянии. Преобладали два настроения, веселость или ярость, причем переходы между ними совершались мгновенно. И все, что подходило под его определение «мещанства», а также пошлости, вызывало молниеносно возникавшие приступы ярости. Так, он не выносил и, по собственному его выражению, «истреблял граждан с сальным блеском глаз»:
— У него глаза блестят так, что котлеты жарить можно,— возмущаясь и одновременно с отвращением объявлял во всеуслышание Дау.
На первый взгляд покажется странным, что такая манера поведения сочеталась у юного Ландау с глубокой, мучительной и тщательно скрываемой застенчивостью. Вот как пишет об этом Е. М. Лифшиц: «Увлеченность физикой и первые успехи на научном пути омрачались, однако, в это время болезненной стеснительностью в общении с людьми. Это свойство причиняло ему много страданий и временами — по его собственным признаниям в более поздние годы — доводило до отчаяния».
Озадачивающая эта несовместимость крайней застенчивости с громогласной манерой обличения объяснялась тем, что робел он совсем в других ситуациях, а не при общении с теми, кого обличал; например, робок, застенчив, стеснителен молодой Ландау был с молодыми женщинами; он не знал, как к ним подойти, как вести себя, как завязывать отношения, и это заставляло его мучиться, страдать, терзаться своей вроде бы неполноценностью.
«Те изменения, которые произошли в нем с годами и превратили в жизнерадостного, везде и всегда свободно чувствовавшего себя человека,— в значительной степени результат столь характерной для него самодисциплинированности и чувства долга перед самим собой,— продолжает Лифшиц.— Эти свойства вместе с трезвым и самокритичным умом позволили ему воспитать себя и превратить в человека с редкой способностью — умением быть счастливым».
Несмотря на многие трудности, бытовые, другие, студенческая молодежь жила в те годы весело, постоянно ждала чего-то нового, постоянно находилась в возбужденном состоянии. По любому поводу вскипали и кипели страсти. Один из студентов, знакомясь с Дау, с ходу спросил его, кого он любит больше, Уланову или Вече-слову. Услышав, что Дау вообще не любит балета, обиделся, рассердился и не захотел с ним больше общаться. Все непрерывно спорили — о литературе, о живописи. Женя и Нина, поклонницы Пикассо, нападали на Дау за то, что он «любил не дальше Левитана», любил сюжетное искусство. Впрочем, пристрастие к сюжетности — и в живописи, и в литературе, и в кинематографе — сохранилось у Ландау навсегда. Хотя со временем он стал куда более терпимо относиться к вкусам, отличным от своих собственных. А в те дни —
Под звуки оперетты модной
Ландау со стулом спор ведет.
Готов всегда, где, с кем угодно
Проспорить ночи напролет.
Четверостишие это (по форме далеко не лучшее из того, что сочиняла Женя, и совсем безобидное — а она умела с легкостью пускать весьма ядовитые стрелы, особенно в «старших») рисует типичную для Дау тех лет картинку.
Предметы споров были разными. Но главным в жизни оставалась физика, серьезнейшие занятия наукой. В 1927 году Ландау защищает диплом. В университете в те времена защита диплома считалась значительным событием, так как происходил большой отсев студентов и кончало обычно не более двух-трех человек в год. В качестве диплома Ландау представил оттиски своей к тому времени напечатанной работы: «К теории спектров двухатомных молекул», где он применил матричный метод расчетов. Одним из оппонентов был Дмитрий Сергеевич Рождественский. Он сказал:
— Я ничего не понял в вашей работе, но, наверное, это очень умная работа.— Но все-таки был сердит и упрекнул Ландау: — Зачем вы пишете таким способом? — Тогда мало кто знал матричный метод. А кроме того, Ландау обычно писал слишком кратко и потому, случалось, не всегда понятно.
В год защиты ему исполнилось девятнадцать лет...
В Копенгагене у Бора и в других научных центрах
В 1929 году Ландау командируется на полтора года за границу. Такие длительные командировки молодых физиков для работы в ведущих научных центрах Европы и общения с крупнейшими учеными широко практиковались в то время. К тому же исключительные способности Ландау стали уже достаточно очевидны — он опубликовал несколько серьезных работ.
— Я был в Швейцарии, Германии, Дании, Англии, смотрел Бельгию и Голландию,— спустя тридцать лет вспоминал Ландау.— Это путешествие имело громадное значение для меня. Я перевидел всех великих физиков. Не виделся только и теперь уже не увижусь с Э. Ферми. Со всеми, кого я видел, было приятно разговаривать. Ни в ком из них не было и намека на кичливость, важность и зазнайство. В. Паули и В. Гейзенберга хорошо знал. Встречался с П. Дираком... Своим учителем считаю датского физика Нильса Бора. Именно он научил меня понимать принцип неопределенности квантовой механики. С Альбертом Эйнштейном встречался в Берлине, он произвел на меня большое впечатление.
Кого я считаю крупнейшим физиком на Западе? Если говорить вообще, то это — Альберт Эйнштейн, а сейчас крупнейший теоретик — Нильс Бор — так ответил Ландау своим студентам. Было это в 1961 году.
Большую часть срока Ландау провел в Копенгагене у Нильса Бора. Институт Бора был подлинным мировым центром теоретической физики, «физической Меккой», куда съезжались теоретики со всех континентов. Там постоянно шла очень напряженная коллективная работа, царила атмосфера подлинной духовности, которая всегда возникала вокруг Бора, создавалась одним лишь его присутствием.
И весь стиль отношений, и научных, и человеческих,— свободных, легких, равноправных,— был, можно сказать, принципиально антииерархическим. Между физиками существовало самое тесное общение. Ежедневный, по существу, обмен мыслями, идеями, результатами работы. Истина в буквальном смысле рождалась в спорах — повседневных и очных, а не разделенных большими временными и пространственными промежутками. Не надо было ждать, пока работа будет закончена, оформлена, опубликована и т. д. и пока тот же путь проделает какой-то отклик на нее.
Научное общение теоретиков — как оно происходит в жизни? Чаще всего так. Помимо работы где-нибудь в уединении, идет постоянный, коллективный научный разговор. Семинары, просто беседы вдвоем, впятером, как придется и где придется, у доски, в кафе, на прогулке.
В таких беседах, диспутах, подчас горячих и резких спорах бывает всякое. Высказываются и глубоко продуманные и только что родившиеся мысли, идеи, доказательства, аргументы. Многие из них обернутся мусором, вздором, на что не преминет указать собеседник, да еще, если такой характер, и поиздевается с наслаждением. Но все равно будет польза, недаром один из каламбуров Ландау гласит: «Работать в корзину, но не впустую». А главное, наверняка и драгоценные зерна окажутся в этой куче,— не могут не оказаться, если собрались вместе великие таланты и незаурядные умы. И кто-то эти зерна заметит, извлечет, и начнется — опять же в спорах и обсуждениях — совместная их обточка, шлифовка...
Ландау, с его великолепным владением аппаратом теоретической физики, способностью мгновенно схватывать и понимать новое, умением и потребностью идти своим путем, острокритической силой ума, оказался в Копенгагене в числе самых активных участников такой работы.
Что такое «абсолютная ценность» ученого? Чем и как измерить талант? Когда можно сказать, что ученый полностью осуществился, что все отпущенное ему природой он реализовал? Вопросы тонкие, а ответы неоднозначные. К примеру, хорошо известна придуманная Ландау классификация физиков-теоретиков по их вкладу в науку. Обычно она воспринимается как некая «шутка гения», к тому же стремящегося все и вся классифицировать и систематизировать. Согласно этой шкале физики-теоретики разделялись на пять классов. Половинный класс занимал один Эйнштейн, в первом были Бор, Шрёдингер, Гейзенберг, Дирак, Ферми... (А в бытность Ландау в Харькове у него был другой вариант классификации: в первый класс входили Ньютон, Френель, Клаузиус, Больцман, Гиббс, Максвелл, Лоренц, Планк, Эйнштейн, Бор, Гейзенберг, Шрёдингер, Дирак — в институте висели их портреты). Себя Ландау поместил только в двухсполовинный класс и лишь через много лет перевел во второй. Деятельность теоретиков оценивалась им по логарифмической шкале. Это означало, что находящийся в каждом последующем классе сделал для науки в десять раз меньше, чем физик предыдущего класса. Словно в круг Дантова Ада, в пятый класс Ландау поместил тех, кого называл «патологи».
Несмотря на шуточный антураж этой классификации, она представляется не случайной и по сути совсем не шуткой. С ней перекликаются такие, например, строки из воспоминаний одного из соавторов Ландау, академика В. Л. Гинзбурга:
«Талант Ландау так ярок, техника так отточена, что, казалось бы, он мог сделать еще больше, решить еще более трудные проблемы. Как-то, к слову пришлось, и я сказал это Льву Давидовичу, но он, словно и раньше думал об этом, очень четко ответил: «Нет, это неверно, я сделал, что мог».
За этой неэмоциональной, сдержанной фразой слышится много скрытых эмоций. Безусловно, Ландау об этом думал и, вероятно, думал не единожды. Особенно впечатляет именно лаконичность ответа.
Был еще и такой эпизод в его жизни. Двадцатидвухлетняя девчонка, красивая, полная самомнения, заявила ухаживающему за ней Ландау:
— Вот если бы вы были гением...
На что Ландау очень серьезно заметил:
— Нет, я не гений. Вот Бор гений. И Эйнштейн гений. А я не гений.— И помолчав: — Но я очень талантливый.— И после паузы снова: — Я очень талантливый.
Трудно поверить, что это были ничего не значащие слова, сболтнулось — так, к случаю. Скорее, наоборот — слова эти свидетельство того, что он размышлял о себе и давал себе оценку, определял свою роль, свое место в физике, подводил какие-то итоги; и вовсе не беспристрастно, не со стороны — хотя и с высокой, может быть, предельной степенью объективности, но и с немалым зарядом эмоций.
Однажды Ландау обронил такую фразу:
— Я немножко опоздал родиться. Мне бы сделать это на 6—7 лет раньше. И я мог бы, как... (он назвал имена некоторых молодых из «первого класса»).
Наверное, и вправду мог бы — судя по всему, что известно о поразительной мощи его ума и таланта и о том, как он до неправдоподобия свободно чувствовал себя во всех областях теоретической физики и как виртуозно владел ее сложнейшим математическим аппаратом.
Вот и Дирак недавно, при получении премии имени Роберта Оппенгеймера, сказал о себе:
— Я благодарен судьбе, что родился вовремя: будь я старше или моложе на несколько лет, мне не представились бы столь блестящие возможности.— И еще о том же: — Период, длившийся несколько лет, начиная с 1925 г., можно назвать золотым веком физики. Тогда быстро развивались наши основные идеи, и у всех было полно работы.
Вот к этому-то золотому веку бурного, как взрыв, и блистательного становления квантовой механики и «опоздал родиться» Ландау. Действительно, Бор, де Бройль, Шрёдингер, Борн, Гейзенберг, Ферми, Дирак, Паули... Правда, первые четверо начали жизнь еще в прошлом веке, зато вторая четверка родилась, как по заказу, кучно и «вовремя»: Паули — 1900 год, Гейзенберг и Ферми — 1901, Дирак — 1902.
К началу золотого века Дираку было двадцать с небольшим, и тогда он сделал главные свои работы. Ландау в это время было только семнадцать. А к 1930 году, когда он попал в Копенгаген к Бору, все главное — основополагающее — в квантовой механике, было уже сделано.
Ю. Б. Румер вспоминает, что в самом конце 1929 года на коллоквиуме по теоретической физике в Берлине Павел Сигизмундович Эренфест познакомил его с Ландау. И тот с сожалением сказал:
— Как все хорошие девушки уже разобраны и замужем, так и все хорошие задачи решены. И вряд ли я найду что-нибудь достойное среди оставшихся.
Однако будущее показало, что и на долю Ландау тоже хватило «хороших задач». И он сам, и остальные физики много раз в этом убеждались. Хотя действительно главное в основах квантовой механики было уже сделано, но в Копенгагене по-прежнему шла широкая разработка этих основ. Вместе с другими теоретиками в ней участвовал и Ландау. С тех лет навсегда, до конца жизни, сохранилась его дружба с Бором и любовь к Бору. И каждая их встреча — и когда Ландау в 1933 и 1934 годах кратковременно бывал в Копенгагене, и когда Бор приезжал в СССР — станет праздником для Ландау.
Не удивительно, что особенно повлиял на Ландау — как и на большинство теоретиков — Копенгаген. Ландау очень многое взял у Бора, недаром он всегда говорил, что Бор — единственный его учитель. И хотя, казалось бы, по человеческим своим качествам они противоположны: Бор — предельно мягкий, доброжелательный, прямо-таки патологически тактичный, а Ландау — задира, резкий, саркастичный, многим казалось — резкий до грубости... но, во-первых, и Бор мог вскипать, а во-вторых, и Ландау вовсе не со всеми и не всегда бывал таким, не надо думать, что подобное поведение его было запрограммированно раз и навсегда.
Вдруг оказалось: как хорошо этот задира себя чувствует, когда весь темперамент можно выплескивать в научных спорах да в разных дурачествах, в веселых и уже безобидных шутках. Его любили, а экстравагантности и смешные проделки легко прощали. Здесь, в Копенгагене, их вообще хватало, и Ландау не был исключением. Таков был стиль жизни и поведения, что никак не мешало напряженнейшей и плодотворной работе, а может, даже помогало; потому что служило отдыхом и разрядкой.
Помимо Копенгагена, Ландау работал в Цюрихе у Вольфганга Паули и в Кембридже у Эрнеста Резерфорда. Было ли это влияние Паули или просто некое совпадение, но впоследствии физики, хорошо знавшие и Паули и Ландау — а прежде всего Эренфест,— отмечали сходство в характере их мышления и в некоторых чертах их творчества.
Вот что рассказывает о тех давних годах и о самом Ландау Рудольф Пайерлс (из Предисловия Р. Пайерлса к английскому переводу первого издания этой книги (Пергамон Пресс, 1980):
«Дау, или Лев Давидович Ландау, был одним из великих физиков и одной из замечательных личностей нашего поколения. Мне посчастливилось хорошо его знать, мы были добрыми друзьями, хотя позднее война и другие события не позволяли нам видеться часто.
Я живо помню, какое большое впечатление он произвел на всех нас, когда в 1929 году появился у Паули в Цюрихе, где я тогда как новоиспеченный доктор философии работал в качестве ассистента. Он был даже несколько моложе меня и совершенно неизвестен. Но не понадобилось много времени, чтобы обнаружить глубину его понимания современной физики и искусство в решении фундаментальных проблем. Он редко прочитывал целиком статьи по теоретической физике, а лишь проглядывал их, чтобы посмотреть, интересна ли поставленная там проблема и если интересна, то каков подход автора к решению ее. После этого он сам проделывал все вычисления, и когда результаты его и автора совпадали, статья получала одобрение.
Конечно, дискуссии с ним и совместная работа давали очень много. Однако хотя физика и переживала в те дни становление новой квантовой механики, она отнюдь не была единственной темой наших разговоров. Он интересовался всем, что его окружало, людьми и их отношениями, образом жизни на Западе. Ко всему этому он подходил так же, как к физическим проблемам, строил теории, давал определения, классифицировал. Там он впервые занялся классификацией физиков по их роли в науке, хотя окончательную форму эта классификация приобрела значительно позже. Тогда же он начал, возможно, создавать шкалу оценок «ситуации», слово, которое он придумал для обозначения отношений между мужчиной и женщиной. Были строгие критерии того, когда можно считать ситуацию удовлетворительной. Если же он находил, что у его друзей или знакомых ситуация неудовлетворительна, то, безусловно, считал своим долгом указать на это — что далеко не всегда одобрительно воспринималось парой, о которой он проявлял беспокойство.
Он был уверен, что прогресс в физике зависит только от молодежи, и однажды, услышав упоминание о теоретике, о котором ничего не знал, произнес свою знаменитую фразу:
— Как, такой молодой и уже такой неизвестный?
Он интересовался политической жизнью на Западе и любил высмеивать некоторые ее черты. Первое его посещение Цюриха оказалось очень недолгим. В то время дипломатические отношения с Советским Союзом еще не были установлены, и швейцарские власти, возобновляя разрешение на пребывание Ландау, с каждым разом уменьшали сроки, пока он вообще не вынужден был уехать...
Через год он вернулся в качестве рокфеллеровского стипендиата, и трудности отпали. В этот второй приезд мы сделали еще одну совместную работу, касающуюся основ квантовой механики и связи их с теорией относительности. Инициатором этой работы был, конечно, Ландау. Это была одна из проблем, глубоко интересовавших великого датского физика Нильса Бора, и он решительно не согласился с нашими выводами. Когда потом мы оба, Ландау и я, поехали в Копенгаген, диспуты с Бором, несмотря на все наше уважение к нему, были очень горячими, но это ни в какой мере не повлияло на исключительно теплую привязанность Бора к Ландау».
Работа, о которой говорит Пайерлс, называется «Распространение принципа неопределенности на релятивистскую квантовую теорию», а была она, по существу, ниспровержением ниспровержения основ классической физики, но, конечно, не в смысле утверждения классики, а наоборот, еще больших ограничений ее применимости.
Разумеется, они отправились с этой «бомбой» в Копенгаген — куда еще? Недаром Эренфест сказал своему ученику Гендрику Казимиру, когда они ехали в Данию:
— Сейчас вы познакомитесь с Бором. Это самый важный момент в жизни любого молодого физика.
А другой молодой физик, Отто Фриш из Германии, так описал матери первую встречу с Бором: «Господь бог собственной персоной взял меня за пуговицу пиджака и ласково улыбнулся мне».
О некоторых перипетиях этой дискуссии рассказал Д. Данин в своей книге «Нильс Бор» — вообще там можно очень многое узнать не только о самом Боре, но и о его школе, об атмосфере, царившей в Копенгагене, о множестве событий в жизни физики и вокруг нее. Бельгийский теоретик Леон Розенфельд, направившийся из Льежа в Копенгаген, чтобы, как и остальные, поработать у Бора, а потом ставший его многолетним сотрудником и биографом, нарисовал картину, которую он застал по прибытии к Бору.
«Я приехал в институт в последний день февраля, и первым, кого я увидел, был Гамов. Я спросил его о новостях, и он ответил мне на своем образном языке, показав искусный рисунок карандашом, который он только что сделал. На рисунке был изображен Ландау, крепко привязанный к стулу и с заткнутым ртом, а Бор, стоявший перед ним с поднятым указательным пальцем, говорил: «Погодите, погодите, Ландау, дайте и мне хоть слово сказать». Гамов добавил: «Такая вот дискуссия идет все время». Пайерлс уехал днем раньше. Как сказал Гамов, «в состоянии полного изнеможения». Ландау остался еще на несколько недель, и у меня была возможность убедиться, что изображенное Гамовым на рисунке положение дел было приукрашено лишь в пределах, обычно признаваемых художественным вымыслом.
Для напряженной дискуссии была, конечно, причина, ибо Ландау и Пайерлс подняли фундаментальный вопрос. Они поставили под сомнение логическую состоятельность квантовой электродинамики...»
Еще одно свидетельство — Отто Фриша: «Эта сцена навеки запечатлелась в моей памяти. Бор и Ландау сцепились между собой. Ландау сидел, откинувшись на скамью, и отчаянно жестикулировал. Бор, наклонясь над ним, размахивал руками и что-то говорил. Никому из них и в голову не приходило, что в подобном методе ведения научной дискуссии есть что-то необычное».
Мы не станем вдаваться не только в подробности, но и в суть этой полемики, звеньями которой были: работа Ландау и Пайерлса, диспуты с Бором — в них помимо главы школы в той или иной степени участвовали и те, кто его тогда окружал.
События эти нашли отражение более чем через четверть века в шуточной биографии, написанной для сборника в честь пятидесятилетия Рудольфа Пайерлса его друзьями:
«...Сперва он учился у Зоммерфельда, а затем был переброшен к Гейзенбергу. Большинство своих открытий того времени он сделал в поездах. Путешествия заносили его далеко, например в Россию, и никто из знающих его жену не обвинит Пайерлса в том, что он вернулся оттуда с пустыми руками.
Некоторое время он работал ассистентом Паули. Паули, очевидно, был им очень доволен, потому что впоследствии с любовью вспоминал, что «этот Пайерлс всегда вычислял какую-нибудь ерунду».
В это время он внес крупный вклад в квантовую теорию излучения, и тут они с Ландау заварили такую кашу, что Бор с Розенфельдом расхлебывали ее несколько месяцев».
Почти через тридцать лет, в связи с присуждением Ландау премии имени Фрица Лондона за исследование низких температур, Бор писал, вспоминая эти события: «С самого начала на всех нас произвела большое впечатление его способность добираться до самых глубин физических проблем и его строго принципиальное отношение ко всем аспектам человеческой жизни, что часто приводило к спорам. В книжке, изданной к моему семидесятилетию, Розенфельд дает живую картину состояния крайнего возбуждения, в которое пришел институт из-за работы Ландау и Пайерлса о распространении принципа неопределенности на релятивистскую квантовую область, работы, которая в конечном итоге послужила для меня и Розенфельда поводом к созданию длинного научного трактата».
В Цюрихе, по-видимому, Ландау задумал и начал еще одну работу — о квантовомеханическом описании поведения свободных электронов, или, как принято было говорить, «электронного газа» в металлах. «В это время он внес важный вклад во многие области физики,— рассказывает Пайерлс.— Его работа о диамагнетизме электронов проводимости простым и элегантным способом разрешила загадку, смущавшую многих ветеранов».
Результатом этой работы стала статья «Диамагнетизм металлов». Ландау предсказал — открыл теоретически — возникновение совершенно особых магнитных свойств у газа свободных электронов в металле. Ему удалось это сделать потому, что он, в отличие от общепринятого подхода, основанного на законах классической механики и классической статистики, впервые применил квантование к «электронному газу» и таким образом пришел к результату, что в этом сильно нетривиальном «газе» появится состояние, известное как диамагнетизм.
...В свое время Пайерлса поразил своим предвидением, а потому четко ему запомнился один разговор с Ландау. Было это через несколько лет после описанных событий. Позади остались давние приезды в Ленинград, когда Пайерлс, попав в знакомую нам компанию, был окрещен Ландау «паинькой», и когда он стал мужем Жени Канегиссер, и когда овладевал русским языком — всем доставляло немалое удовольствие наблюдать, как первую половину дня он прилично говорит по-русски, а вечером, видимо уставая, путается все больше и больше. Дело было летом 1934 года во время совместной поездки по Кавказу. Их спутник, инженер, спросил:
— Что это такое мы читали про атомную энергию? Просто научная фантастика или здесь есть и реальные возможности?
Не задумываясь, Ландау ответил:
— Это сложная проблема. Существуют ядерные реакции, при которых освобождается энергия, но мы можем вызвать их только бомбардировкой заряженными частицами. Однако большинство заряженных частиц, проходя сквозь вещество, замедляется раньше, чем успевает попасть в ядро, поэтому приходится затрачивать гораздо больше энергии, чем получается при такой реакции. Не замедляясь, пролетают сквозь вещество нейтроны, но пока есть только один способ получать нейтроны — бомбардировкой заряженными частицами, то есть мы опять приходим к тем же трудностям. Но если когда- нибудь кто-нибудь откроет реакцию, при которой нейтроны будут высвобождать и вторичные нейтроны, и энергию, тогда, считайте, дело в шляпе.
Этот разговор, подчеркивает Пайерлс, произошел всего спустя два года после открытия нейтрона и задолго до того, как открытие деления ядер привело к мысли о цепных реакциях...
А что касается диамагнетизма металлов, то это явление, как мы уже знаем, вошло в науку под именем «диамагнетизм Ландау». Работа двадцатидвухлетнего Ландау стала существенной деталью в здании современной физики.
Интересна следующая подробность. Статья написана, собственно, не в Швейцарии, а в Англии («Кембридж, Кавендишская лаборатория» — стоит под ней подпись) и заканчивается словами: «Я хочу здесь сердечно поблагодарить П. Л. Капицу за обсуждение результатов опытов и сообщение некоторых еще не опубликованных данных».
Хотя юность Капицы была связана с тем же городом, что и юность Ландау, и с теми же институтами — Ленинградским физико-техническим, университетом, но там пути их не сошлись. Петр Леонидович Капица родился в 1894 году, он был на четырнадцать лет старше Ландау, и ко времени переезда того в Ленинград жил и работал в Кембридже у Резерфорда. Здесь-то и состоялось его знакомство с Ландау, возник между ними научный и человеческий контакт.
Пройдет несколько лет, и оба окажутся под одной крышей, в городе, где прежде не живали. А рельсы их научных дорог будут то сближаться, то расходиться, чтобы на одном крайне важном этапе пойти параллельно и близко друг к другу. К этому приведет стечение многих событий и обстоятельств — и личных, и совсем не личных.
Из Ленинграда в Харьков
«Второй ленинградский период» оказался неким промежуточным этапом в жизни Ландау: вернулся он учеником Бора и сам был внутренне готов стать учителем, формировать собственную научную школу, что и удалось ему потом в Харькове. Правда, в Ленинграде наряду с научной работой Ландау тоже активно занимался преподаванием, читал лекции студентам. Но здесь он по-прежнему числился в «молодых» — хотя был уже профессором,— и ему приходилось все время отстаивать, часто в весьма ожесточенных спорах, свою точку зрения и на методику изложения теоретической физики, да и на суть и содержание этой науки тоже. (Он любил говорить, что она есть именно самостоятельная наука и даже придумал ей название: «теоретика».)
А тот «кусок жизни» был действительно промежуточным, вроде бы послужил мостом, перекинутым в следующий, уже весьма важный для Ландау... Однако «мост» шатало и болтало. Поэтому недолгий, но один из самых сложных для Ландау отрезков времени оказался сложным и запутанным также для тех, кто пишет и его биографию, и историю нашей физики вообще. Здесь перемешалось большое и малое, серьезное с пустяками. Может быть, оттого, что многое перемешалось в самом Ландау. И как всегда бывает в сложных взаимоотношениях людей достойных и думающих гораздо больше о деле, чем о самих себе, тут не было и не могло быть ни целиком и полностью правых, ни, соответственно, виноватых. Но опять же, как всегда бывает в подобных случаях, никому от этого легче не становилось.
Причиной — или поводом — по-прежнему была борьба за физику, причем каждая сторона боролась за ту физику, которую она считала настоящей и правильной. И тем оружием, которое считала правильным. У молодых из компании Ландау таким оружием, как и прежде, были язвительные выпады и оценки. В это вкладывали уйму изобретательности, все делалось с энтузиазмом, увлеченностью, удовольствием; дурачась, говорили серьезные вещи и боролись за серьезную науку, но и с полной серьезностью, самозабвенно дурачились просто так.
Друзьям запомнилось многое. И достаточно невинные вещи, например, такой вот стишок, составленный из любимых «терминов» Ландау (и притом как-то отражавший его настроение):
Жить на свете очень трудно,
Копошатся, словно змеи,
Постники, Гнусы, Зануды
В агрессивной ахинее.
(Не просто «ахинея», а агрессивная!) И «научная теория», какой она запечатлелась в памяти «гуманитарной приятельницы» Ландау Елены Феликсовны Пуриц — она же Лиля, она же «Килька брюхом вверх». (И для Кильки Дау нашел четкую формулу, в которую все укладывалось: «Чем больше страдает, тем более виновато улыбается»,— но «ситуации» в их отношениях не было, только большая дружба.) Так вот, была построена теория скуки. Как в физике есть, например, единица количества электричества — кулон, или силы тока — ампер, или напряжения — вольт, точно так же по имени «местного» физика была введена «единица скуки» и определено ее, так сказать, физическое содержание:
— Час общения с ним убивает слона.
Потом розыгрыши перестали носить «домашний» характер, пределы Ленинграда сделались тесны. А борьба за физику, к примеру, стала вестись с выходом в эфир — попросту говоря, выступлением по радио — и против эфира. Последнее было правильно по сути, потому что речь шла о том эфире, который «похоронила» теория относительности; но автор выступления, один из приятелей Ландау, допустил некоторые резкости. Что, естественно, повлекло за собой серьезные жалобы... Роль арбитра пала на Иоффе. Похоже, эта компания не очень возражала, когда широкая спина «папы Иоффе» прикрывала их от возмездия, защищала от ударов извне и, главное, давала возможность серьезно заниматься серьезной наукой. Хотя они не могли не понимать, что ради этого — чтобы наукой занимались молодые, причем в разных городах страны,— Иоффе жертвовал собственными научными интересами, возможностью самому в полную меру работать в лаборатории. С полным сознанием своего права и своей правоты они укрывались за этим бастионом. Но «дома» у них возникали частые и острые конфликты. И тут, случалось, Иоффе бывал не прав, проявлял непонимание истинных ценностей, допускал, как он потом признавался, выпады, недостойные себя.
Ландау стало плохо — это было очевидно для всех и нашло отражение в письмах Жени к Пайерлсу: «Дау совсем кислый... Я не знаю, что с ним делать... Правда, они теперь с Аббатом в ужасной дружбе и по-моему никогда не поссорятся...»
Действительно, в ту пору он особенно сблизился с Матвеем Петровичем Бронштейном, у них во многом сходились взгляды и позиции. Бронштейн был феноменально способным и образованным человеком. Знал буквально все на свете, например, много языков, вплоть до самых экзотических, и с легкостью и быстротой приплюсовывал к ним один язык за другим. Так же легко писал стихи, поэмы, пародии, причем не только по-русски; сохранились и его английские стихи. А уж чужих стихов помнил великое множество, в этом мог дать фору кому угодно. Был он человеком в высокой степени принципиальным, часто резко принципиальным. Вспоминая о нем, обычно цитируют такие строки: «Истину царям с улыбкой говорил», и еще: «Ростом мал, но дух имел высокий». Бронштейн охотно занимался популяризацией физики,— он блестяще писал об общих проблемах мироздания, строения Вселенной, физической сущности материи.
Поэтому, например, его популяризаторская деятельность выдержала проверку долгим-долгим временем и, скажем, популярнейшая библиотечка «Квант» открывается книгой Бронштейна «Атомы и электроны» (следующей, под вторым номером, идет «История свечи» Фарадея).
Необычайно яркая и притом разносторонняя одаренность имела и свою оборотную сторону. По существу, он не сделал еще окончательного выбора. Наряду с физикой очень сильный интерес и склонности были у него и к гуманитарным наукам. Вообще его притягивали широкие проблемы, связанные с философией. И в этом его коренное отличие от Ландау. Последний был целиком физик, принадлежал только физике. И, как мы знаем, степень широты, всеобщности, важности, фундаментальности работы его особенно не волновала — для него не существовало великих и малых задач. Волновало только одно: чтобы работа была качественная и нужная науке. Но представляется, что и у Бронштейна дело было вовсе не в некоем «снобизме», а в складе его ума, тяготевшего к философским и вообще гуманитарным областям знания.
Те, кому довелось слушать его лекции, вспоминают, каким великолепным лектором был молодой профессор. Эрудиция его не имела предела. К тому же он так, такими сторонами, такими неожиданными гранями умел повернуть, показать обсуждаемое явление, что оно по-особенному начинало играть, и все тонкости его навсегда входили в сознание. О влиянии, которое оказал Матвей Петрович Бронштейн на своих студентов, с благодарностью рассказывают Ю. Л. Соколов и Э. Л. Андроникашвили.
Были у Ландау с Бронштейном и совместные работы, даже тогда, когда Ландау пришлось переехать в Харьков. А в Ленинграде они действительно были близки во многих общих делах и помыслах и, естественно, находились в одном лагере в борьбе со «старшими». Отзвуки этой борьбы не утихали долго, они отразились, в частности, в переписке Иоффе с Эренфестом.
Пауль Эренфест уже появлялся на этих страницах и будет появляться еще. Физикам, даже младших поколений, не надо объяснять, кем он был, остальных же хочется хоть немного с ним познакомить.
Роль Эренфеста в физике первой трети нашего века была исключительной. Ну, а сама первая треть нашего века была уж совсем исключительной в истории физики.
Эренфест всегда и повсюду, независимо от города и страны, где он жил, и ранга физиков, с которыми общался, играл весьма важную роль катализатора в их взаимопонимании. Его все глубоко любили, а близкие друзья, Бор и Эйнштейн, особенно подчеркивали эту его роль, так же, как и необыкновенные критические способности ума, четкое понимание и тонкостей и затруднений новых физических идей.
Лучше, сердечнее и в то же время точнее всего сказал о нем Эйнштейн в статье «Памяти Пауля Эренфеста»:
«Его величие заключалось в чрезвычайно хорошо развитой способности улавливать самое существо теоретического понятия и настолько освобождать теорию от ее математического наряда, чтобы лежащая в ее основе простая идея проявлялась со всей ясностью. Эта способность позволяла ему быть бесподобным учителем. По этой же причине его приглашали на научные конгрессы, ибо в обсуждения он всегда вносил изящество и четкость. Он боролся против расплывчатости и многословия; при этом пользовался своей проницательностью и бывал откровенно неучтив. Некоторые его выражения могли быть истолкованы как высокомерные, но его трагедия состояла именно почти в болезненном неверии в себя. Он постоянно страдал от того, что у него способности критические опережали способности конструктивные. Критическое чувство обкрадывало, если так можно выразиться, любовь к творению собственного ума даже раньше, чем оно зарождалось.
Он не только был самым лучшим профессором из людей нашей профессии, которого я знал, но его страстно занимали становление и судьба людей, особенно его студентов. Понимать других, завоевать их дружбу и доверие, помогать тому, кто был стеснен внешней или внутренней борьбой, ободрять молодые таланты — все это было его истинным призванием...
Мы, чьи жизни обогащались силой и цельностью его ума, доброжелательностью и теплотой его щедрой души и в не меньшей мере его юмором и сарказмом, знаем, что потеряли с его смертью».
Если уйти немного назад во времени и снизить тон (хотя, повторяем, в словах Эйнштейна не было никакого преувеличения, как всегда и во всем он был правдив и искренен), все равно прежде всего хочется сказать, что его действительно все любили. Он много раз и подолгу бывал у нас в стране, был женат на Татьяне Алексеевне Афанасьевой, русском математике, и в начале тридцатых годов намеревался насовсем перебраться в Советский Союз.
Своеобразная русская речь — естественно, неправильная, с ошибками, но необычайно образная, красочная, всегда остроумная — в сочетании с глубоким содержанием привлекала на его лекции и выступления множество народу. Павел Сигизмундович, как звали его здесь, стал по-настоящему своим для советских физиков.
А. Ф. Иоффе говорил, что друга ближе, чем Эренфест, у него никогда не было. Поэтому их откровенная переписка представляет большой интерес.
«О ком бы я основательно хотел поговорить с тобой: о Фоке, Ландау и Гамове,— пишет Эренфест в декабре 1932 года из Харькова, куда переехал уже Ландау.— Эти трое, взятые вместе, составляют совершенно превосходный ансамбль физиков-теоретиков, обладающий ясностью и критичностью мышления (Ландау — Фок), изобретательностью (все трое), тщательно продуманными знаниями (Фок — Ландау), техникой расчетов (Фок!!!) и юношеской ударной силой...
Что же касается Ландау, то в последнее время я стал ценить его как совершенно необычайно одаренную голову. В первую очередь за ясность и критическую остроту его мышления. Мне доставляло большое удовольствие спорить с ним о разных вещах. И совершенно независимо от того, был ли я при этом не прав (в большинстве случаев — в основных вопросах) или прав (как правило, во второстепенных деталях), я каждый раз очень многое узнавал и мог при этом оценивать по достоинству, насколько ясно он «видит» и насколько большим запасом ясно продуманных знаний он располагает...»
Ответом было длинное письмо Иоффе, проникнутое болью, горечью, справедливыми обвинениями в свой собственный адрес и упреками в адрес Ландау, справедливыми там, где речь шла о его поведении и уж совершенно несправедливыми, когда дело касалось его знаний, таланта, понимания физики, отношения к ней.
«Мне думается,— написал ему в ответ Эренфест,— что с самого начала наше отношение к теоретической физике было различным, да различным оно и осталось. Я всегда был склонен превыше всего ценить логическую ясность теоретического мышления — это мне часто мешало принимать новые идеи (я не забывал ни одного случая «запоздалости»!!) и побуждало при случае предпочитать людей относительно ясно думающих людям, относительно более находчивым.
...Мне представляется несомненным, что такой человек, как Ландау, в равной степени для любой страны представляет собой абсолютно необходимый тип физика-теоретика. Можно спокойно признать, что в характере его мышления (так же, как и в моем) присутствуют типичные талмудистские черты (у Эйнштейна они тоже есть). Во всяком случае, их намного больше в его (Ландау) разговорах, чем в мышлении!!
Но в результате я очень односторонне его охарактеризовал. После того, как я сначала раз-другой с ним очень крепко поспорил из-за некоторых его неоправданно парадоксальных утверждений, я убедился, что он мыслит не только четко, но и очень наглядно — особенно в области классической физики. И в этот очень короткий промежуток времени я узнал от него удивительно много нового — почти каждый раз после фазы спора, в течение которой я был твердо убежден, что он не прав!!
Я люблю способ его мышления почти так же, как и способ мышления Паули».
По этим письмам можно если не восстановить события, то почувствовать атмосферу, которая вынудила Ландау покинуть Ленинград. Однако каждая медаль имеет, как известно, две стороны. Не очутись Ландау в Харькове (а ехать ему туда ой как не хотелось), может быть, и не возник весь тот организм, который называют «школа Ландау», или оказался бы он другим, менее удачным (вот когда не только «гены», но и «окружающая среда» могут существенно определить и ход развития, и весь комплекс свойств организма).
Украинский физико-технический институт (Харьков в те годы был столицей Украины) — УФТИ — стал одним из «дочерних» институтов Ленинградского физтеха. А. Ф. Иоффе, как известно, приложил много усилий для организации в различных городах страны новых институтов. Директорами этих физтехов и ведущими научными сотрудниками становились питомцы Иоффе.
Иван Васильевич Обреимов, руководивший тогда харьковским УФТИ, удивительно рано по тем временам понял, оценил самостоятельное значение теоретической физики: процветающий институт не может быть без теоретиков, говорил он. Это была новая для России позиция. Более того, Обреимов посчитал, что для плодотворной работы института, даже по преимуществу экспериментального, гораздо лучше не распылять силы теоретиков по лабораториям, а создать теоретический отдел, возглавляемый крупным физиком. Так Ландау стал заведовать теоротделом УФТИ, а точнее — превращать его, да и сам Харьков, в значительный центр отечественной физики. В чем довольно быстро преуспел. Скоро сюда стали ездить теоретики из других городов для общения, совместного решения задач, обсуждения работ. Проводились в Харькове и конференции, в которых участвовали и наши и зарубежные физики. Особенно представительной и интересной была конференция по теоретической физике весной 1934 года, на которую приехал и Нильс Бор; Ландау с большим рвением занимался ее организацией.
Широка была и его педагогическая деятельность — он заведовал кафедрой теоретической физики на физико-механическом факультете механико-машиностроительного института, а потом — кафедрой общей физики в Харьковском университете, читал лекции студентам.
С Харьковом связаны истоки и многого другого в жизни Ландау — вообще этот период был большой и значительной главой ее. Здесь впервые он организует теоретический семинар. Разрабатывает первую программу теоретического минимума по физике для сотрудников института. Здесь задуман и начал осуществляться огромный труд — создание Курса теоретической физики. Короче, все то, что потом стали называть «школа Ландау», зародилось именно в Харькове. Там Ландау до конца осознал свое призвание быть учителем.
Стоит посмотреть на фотографию тех лет: юноша по облику, молодой человек по возрасту, он — учитель. Стиль отношений в школе определило то, что ученики были тоже юные. «Учительская» деятельность нисколько не мешала интенсивной творческой работе, не снижала ее темпов и ее разнообразия. Тому подтверждение — длинный перечень статей, написанных Ландау в эти годы.
В Харькове началась постоянная связь Ландау с экспериментаторами, возник глубокий интерес к физическим явлениям, которые раскрываются в опытах. Может, некоторую роль сыграло и то, что экспериментаторами были самые близкие и любимые друзья — Лев Васильевич Шубников и жена его Ольга Николаевна Трапезникова. Существовала в Ландау притягательность, которая создавала ему друзей на всю жизнь. «Все экспериментаторы могли всегда обращаться к Дау,— вспоминает О. Н. Трапезникова.— С ним можно было говорить по любому вопросу — он все понимал и мог посоветовать, как никто другой. Его можно было решительно обо всем спрашивать — о любых результатах эксперимента, что может получиться и почему. Мы к нему непрерывно обращались. Больше такого теоретика я не встречала».
С этими словами перекликаются и строчки уже известного нам второго письма Эренфеста: «Я очень хорошо понимаю, почему здесь каждая отдельная группа экспериментаторов очень охотно советуется с Ландау... он очень живо всем интересуется и интересен сам. Его мальчишеские выходки приводят к тому, что сначала очень часто все, что он говорит, кажется абсолютно непонятным, но если затем с ним упорно поспорить, то чувствуешь себя обогащенным».
Во время своих приездов в Харьков Эренфест быстро приучил тамошних физиков не бояться спрашивать обо всем непонятном, наоборот, внушал он, нельзя оставаться непонимающим, безучастно слушать то, что не достигает сознания.
Еще за два десятка лет до того в своих записных книжках он обосновал, конечно, по-своему, этот важный педагогический принцип: «Никогда не следует стыдиться открыто признать, что в каком-то вопросе вы знаете очень немного, едва-едва «кумекаете» в нем; надо, отбросив ложный стыд, прямо признаться в этом вашем непонимании и задавать вопросы не стесняясь, что оно тем самым непосредственно обнаружится. Я могу засвидетельствовать, что когда замечаю, что кто-то недостаточно подготовлен, но хочет расширить свои знания, я стараюсь любым способом ему помочь и нахожу в этом огромное удовлетворение. Если же, напротив, я вижу, что какими-либо увертками от меня стараются скрыть недопонимание и тем самым мешают мне оценить его степень, я мгновенно перестаю получать удовольствие от объяснения; более того, мне хочется послать его ко всем чертям!»
Вот это — Эренфест в своем живом воплощении. Таким знали и запомнили его харьковские (да и не только они, конечно) физики.
Институтские семинары проходили крайне оживленно и интересно, в них все принимали участие. Ландау был особенно активен. Помимо общеинститутского, устраивались еще семинары по отделам, в частности, организованный Ландау теоретический семинар.
В харьковском УФТИ, когда там появился Ландау, шли интенсивные исследования по физике низких температур. Из Голландии после командировки вернулись Шубников и Трапезникова. Они долго работали в Лейдене, мировом «низкотемпературном центре», и, помимо интереса к этой области физики, запаса навыков и идей, привезли с собой также некоторые подаренные им уникальные приборы и материалы.
Шубников оказался прекрасным организатором. Он создал и оснастил отличную — к тому же тогда единственную в Советском Союзе — криогенную лабораторию. В ней были машины по ожижению газов, в том числе и гелия. В лаборатории работали хорошие стеклодувы и механики. Всегда, и днем и ночью, дежурил персонал, включая лаборанта. Эксперименты тоже часто шли днем и ночью. В ночные часы для бодрости Ольга Трапезникова устраивала чаепития.
Низкотемпературная тематика была широкой, но больше всего занимались сверхпроводимостью, сверхпроводящими сплавами, магнитными свойствами вблизи абсолютного нуля. С этой, в те времена еще достаточно новой для физики областью явлений, связаны и самые значительные научные достижения Льва Васильевича Шубникова. Еще в Лейдене он стал экспериментатором мирового класса в физике низких температур. Свидетельство тому — большое количество сделанных им работ и, соответственно, научных публикаций, в том числе и в таком журнале, как «Нейчур»; но главное свидетельство — открытое им явление, которое потом назвали «эффектом Шубникова—де Гааза» (Шубников тогда работал в лаборатории крупного голландского физика профессора де Гааза). Суть эффекта — в совершенно неожиданном (осциллирующем, колебательном) поведении электрического сопротивления металлов в сильном магнитном поле при низких температурах. Позже стало ясно, что это было первое открытие чисто квантового эффекта в твердом теле: он есть результат квантования энергетических уровней электронов металла в магнитном поле; иными словами, это была экспериментальная картина, «нарисованная» открытым теоретически «диамагнетизмом Ландау».
Так в одном и том же 1930 году в науке «пересеклись», сами того не ведая, два будущих друга и сотрудника. Эффект Шубникова—де Гааза стал со временем — а теперь особенно — универсальным и действенным средством для исследования процессов, происходящих при низких температурах в металлах, сплавах и некоторых видах полупроводников.
Следующее важное открытие было сделано Шубниковым уже в Харькове. Он обнаружил, что магнитные свойства сверхпроводящих сплавов радикально отличаются от свойств сверхпроводящих чистых металлов; тем самым он открыл то, что теперь называют сверхпроводниками 2-го рода.
Сверхпроводимость в течение длительного времени (и после Харькова тоже) занимала и мысли Ландау. Но именно в харьковский период возник у него глубокий интерес к поведению вещества при сверхнизких температурах. Из семнадцати опубликованных им за эти годы статей на разные темы (вспомним о его универсализме) четыре целиком или частично посвящены этим проблемам.
В библиотеке даже ночами обычно бывало много народу. Каждый имел собственные ключи от нее и мог брать книги с собой — правда, не больше, чем на один день. Книги почти не пропадали. Если же такой казус случался, библиотеку закрывали, и книгу следовало тайно, незаметно подбросить. Среди вывешенных в помещении библиотеки правил было и такое: «Нельзя разговаривать, ни даже шепотом»; вероятно, кто-то решил немножко поострить. В «теоретических» комнатах, где хозяйничал Ландау, наоборот, шли постоянные разговоры, оттуда всегда доносился шум.
В свободное время играли в теннис, сочиняли песенки, ставили спектакли, устраивали костюмированные вечера, вообще всячески веселились. Как и в Ленинграде, молодежь наделяла друг друга прозвищами. Ольгу Николаевну за доброту и отзывчивость звали Оленька-ангел. Ландау еще прибавлял, что она «ангел высокого чина, то есть херувим».
Шубников был «Толстый Лев», а Ландау — «Тощий Лев» (потом он стал говорить о себе, что у него не телосложение, а теловычитание). При этом была ,у него какая-то своеобразная грация. И даже ловкость. Неплохо, хотя и смешно, не по правилам держа ракетку, играл он в теннис.
С Харькова начались перемены и в личной судьбе Ландау. Он познакомился с Корой Дробанцевой, красота которой покорила его с первого взгляда, и влюбился в нее. Спустя несколько лет Кора Дробанцева, инженер-технолог кондитерской фабрики, переехала в Москву и стала женой Ландау. В 1946 году у них родился сын Игорь.
Талант воспитателя и призвание быть им — причем не только в физике — становились все явственнее. Ландау активно стремился к тому, чтобы ученики его были вообще хорошими, настоящими людьми, боролся с тем, что, по его мнению, не соответствовало истинному достоинству и правильному поведению. Он внушал им, что работать надо потому, что это интересно, потому, что хочешь выяснить тот или иной вопрос, понять новое сложное явление, решить какую-то задачу. Только это, а никак не стремление сделать великое открытие должно двигать исследователем. Тем более что ставить себе задачу совершить переворот в науке — абсурд.
Ландау презирал тех, кто задался целью непременно перевернуть науку и возвеличиться в ней, равно как и всяких карьеристов и конъюнктурщиков от науки. Не любил само слово «ученый».
— Ученым бывает пудель,— говорил он.— Человек может стать ученым, если его как следует проучат. А мы — научные работники.
И уж совершенно не выносил высокопарного — «жрец науки».
— Есть люди, на которых поглядишь, и сразу видно, что они — «жрецы науки». Они жрут благодаря науке. Никакого другого отношения к науке они не имеют.
Дау был удивительно чистый человек, рассказывает О. Н. Трапезникова. Поэтому многое в его поведений нельзя мерить обычными мерками. Он боролся с «зубрами», ненавидел «гнусов». В то же время, вспоминает Трапезникова, на ее вопрос, какое качество он больше всего ценит в людях, Ландау, не колеблясь, ответил: «Доброту».
Конфликты, в которые вступал Ландау и некоторые его друзья и ученики, стали оборачиваться крупными неприятностями, дело приобретало нешуточный оборот. В конце концов встал вопрос о переезде в другой город.
Москва, Институт физических проблем
В начале 1937 года Капица пригласил Ландау в Институт физических проблем заведовать теоретическим отделом. Приглашение было принято с радостью. Ландау перебрался в Москву за два месяца до официального рождения института.
Институт Капицы возник буквально и фигурально на пустом месте. Капица, много лет работая в Кембридже у Резерфорда, отпуск вместе с семьей всегда проводил в Советском Союзе. Приехав отдыхать летом 1934 года, Петр Леонидович узнал, что ему отныне предстоит работать здесь. Ему был обещан институт и весьма широкие права для организации научной работы по своему усмотрению. Решили, что институт лучше строить в Москве.
Капица вместе с первым будущим сотрудником, ленинградским физиком Александром Иосифовичем Шальниковым ходили по наркоматам и главкам, выясняли возможности промышленности в создании нужного оборудования и приборов. А потом также много и долго бродили по городу, по улицам и переулкам Москвы и искали место для института. Сперва Капица облюбовал дом в Нескучном саду. Но не получил его. А берег Москвы-реки продолжал притягивать. И вот там, где кончался Нескучный сад, рядом с однодневным домом отдыха, отыскался ничейный пустырь. Была на пустыре огромная свалка, разгуливали кошки. Но внизу под обрывом протекала река, и место было по тем временам почти что загородное.
Институт стал особенным, отличным от других, в том числе и академических научных учреждений. Отличался он даже внешним видом. На территории много зелени, теннисный корт. Тут же дом для сотрудников: двухэтажные с отдельным входом, на английский манер, квартиры. Отлично оборудованные мастерские — механическая, стеклодувная. Все под рукой, все свое. Путь от дома до лабораторий, кабинетов, библиотеки занимает считанные секунды.
В свое время Резерфорд добился разрешения построить для своего любимого ученика Капицы лабораторию — уникальную по тогдашним мировым эталонам и нормам. Капица, блестящий экспериментатор, в ком смелость сочеталась с изощренной изобретательностью, получил возможность создавать сверхмощные магнитные поля, чтобы изучать поведение вещества в таких экстремальных условиях. Интересовали его также свойства материи при низких температурах — в его лаборатории поэтому действовали установки по сжижению газов. Теперь, осознав, что самый близкий ученик больше не будет жить и работать рядом, Резерфорд добивается согласия правительства Великобритании продать оборудование Советскому Союзу.
Основные принципы работы и жизни института были весьма четко сформулированы Капицей в его письменных и устных выступлениях; главный из них — никакой распыленности сил и средств, мелкотемья, «растекания по древу». Заниматься только «большой наукой», той, которая изучает основные явления природы и ведет к глубокому их пониманию, к познанию сущности вещей.
В наше время, когда наука приобрела прямо-таки индустриальный характер, а научная работа стала массовой профессией, правомерно встает вопрос о роли личности отдельного ученого в дальнейшем развитии науки. Так ли уж важна теперь крупная фигура? Не может ли и не должен ли заменить ее хорошо слаженный коллектив образованных, современно мыслящих, способных и дееспособных научных работников?
«В большой науке,— отвечает на это Капица,— значительных успехов может добиться только глубоко творчески одаренный и творчески относящийся к своей работе человек... Хотя путь науки предопределен, но движение по этому пути обеспечивается только работами очень небольшого числа исключительно одаренных людей... Поэтому ядро института безусловно можно образовать из небольшого коллектива очень тщательно подобранных научных работников. Это ядро должно всецело отдаться научной работе».
В феврале 1937 года Капица пишет письмо Председателю Совнаркома СССР:
«С этого месяца ко мне идет работать тов. Л. Д. Ландау — доктор физики, один из самых талантливых физиков-теоретиков у нас в Союзе. Цель его привлечения — занятие всеми теоретическими работами, которые связаны с экспериментальной работой нашего института. Опыт показывает, что совместная работа экспериментальных работников с теоретиками представляет собой лучшее средство, чтобы теория не была оторвана от эксперимента, и в то же время экспериментальные данные получали должное теоретическое обобщение, а у всех научных сотрудников воспитывался широкий научный кругозор».
В публичных выступлениях Капица излагал и другие организационные принципы деятельности своего института. Так, он объяснял, что нельзя приравнивать научную работу к промышленному производству, основанному на строгом планировании: «Сам Ньютон, например, не мог бы по заданному плану открыть закон тяготения, поскольку это произошло стихийно, на него нашло наитие, когда он увидел знаменитое падающее яблоко. Очевидно, что нельзя запланировать момент, когда ученый увидит падающее яблоко и как это на него подействует. Самое ценное в науке и что составляет основу большой науки не может планироваться, поскольку оно достигается творческим процессом, успех которого определяется талантом ученого».
Были и такие полемические фразы, на этот раз обращенные к органам финансирования: «Неужели, когда вы смотрите на картину Рембрандта, вас интересует, сколько Рембрандт заплатил за кисти и холст? Зачем же, когда вы рассматриваете научную работу, вас интересует, во сколько обошлись приборы или сколько материалов на это истрачено?» И полуироническое: «Я спрашивал: сколько Наркомфин считал бы допустимым отпустить средств Исааку Ньютону под его работу, приведшую к открытию всемирного тяготения?»
Постепенно институт обретал свой окончательный облик. Появились научные сотрудники. В мастерских стали работать первоклассные стеклодувы, механики, электрики. И начал действовать семинар — быстро завоевавший популярность знаменитый «капичник».
На первых же семинарах Капица рассказал про удивительное явление, обнаруженное голландскими физиками, отцом и дочерью Кеезомами. Жидкий гелий обладал, оказывается, неправдоподобно огромной теплопроводностью. Своей способностью проводить тепло он оставлял далеко позади самые теплопроводные элементы — металлы медь и серебро. Да что там — оставлял позади. Речь шла о порядках величин. Теплопроводность у жидкого гелия была в сотни раз больше, чем у меди. Озадаченный фантастическими результатами опытов Кеезомов, которые противоречили всем известным законам физики, и памятуя, что в природе каждое «не может быть» в конце концов получает свое объяснение и истолкование, Капица решил сам и по-своему повторить эти опыты. Как события развивались дальше и чем кончились, читатель узнает несколько позже, этой истории посвящена вторая половина книжки.
В Институте физических проблем Ландау нашел свой подлинный дом. С ним связал жизнь и судьбу до конца. Был вместе и в дни мира и в дни войны.
Летом 1941 года институт эвакуировался в Казань. Там, как и остальные сотрудники, Ландау отдавал силы прежде всего оборонным заданиям. Он строил теории и производил расчеты процессов, определяющих боеспособность вооружения. В 1945 году, когда война закончилась, в «Докладах Академии наук» появились три статьи Ландау, посвященные детонации взрывчатых веществ. В каждой наряду с Институтом физических проблем указан еще один «адрес» — Инженерный комитет Красной Армии.
Война окончилась, но не исчезла напряженность на планете. В Соединенных Штатах продолжалась работа над бомбой, в августе 1945-го наступил трагический финал.
Советские физики понимали, что в сложившейся ситуации они не могут прекратить работу над ядерным оружием и поставить безопасность страны под угрозу. Во всем комплексе работ, возглавляемом И. В. Курчатовым, принимало участие большинство крупнейших наших физиков. Некоторые из них на какой-то период целиком отдали себя созданию ядерного оружия, расстались со своими институтами и в родные города приезжали ненадолго, гостями. Другие совмещали обычную жизнь и работу с выполнением специальных заданий. К этим последним принадлежал и Ландау. Он внес большой вклад в теоретические расчеты изучаемых процессов на разных стадиях их исследования и практического воплощения.
Страна оценила труды Ландау — он получил много наград. В январе 1954 года стал Героем Социалистического Труда; трижды награждался Государственной премией и раз — Ленинской; имел много орденов, среди них — два ордена Ленина.
В стенах того же Института физических проблем пришло к Ландау, как к яркому представителю советской науки, и широкое международное признание. Он становится членом Британского физического общества и иностранным членом Лондонского Королевского общества, избирается в Национальную Академию наук США и в Американскую Академию наук и искусств, становится членом Датской и Нидерландской академий наук. Ему присуждаются медаль имени Макса Планка, премия имени Фрица Лондона и, наконец,— Нобелевская премия по физике.
Интенсивность напряженной и плодотворной работы Ландау нисколько не ослабевала до самого рокового дня.
7 января 1962 года на шоссе по дороге в Дубну произошла автомобильная катастрофа... Многомесячная борьба за жизнь Ландау увенчалась успехом. Но слишком много было тяжелейших травм и повреждений. Жестокие боли долго и почти постоянно мучали Ландау. И к занятиям наукой он вернуться не смог. Это был в чем-то другой человек («Это было уже не при мне»,— сказал он однажды); и была другая жизнь. Ее мы касаться не станем.
Умер Лев Давидович Ландау 1 апреля 1968 года... В январе 1983 года ему бы исполнилось семьдесят пять лет.
П. Л. Капица неоднократно заводил с Ландау разговор о том, что имеет смысл создать в Академии наук специальный большой институт теоретической физики, что ему пристало руководить институтом, а не маленьким теоретическим отделом в Физпроблемах. Но Ландау «всегда не только отклонял эти предложения, но даже отказывался их обсуждать. Он говорил, что большие масштабы ему не нужны и он весьма счастлив состоять членом коллектива нашего экспериментального института»,— вспоминал потом Капица.
Теперь, оглядываясь назад, все видят, что Ландау выбрал оптимальный вариант. Трудно даже сосчитать, сколько зайцев поймал он одновременно. Он остался сотрудником Института физических проблем, что дало ему по меньшей мере три выигрышных билета.
Не прервалась, а продолжала оставаться по-прежнему тесной и органичной его связь с экспериментаторами, живая и каждодневная. А такой связью он всегда очень дорожил, она была ему необходима. Он сам остался членом крайне привлекательного для него коллектива.
Наконец, здесь, в своем доме, он был одним из самых активных участников «капичника», семинара, где из каких только областей физики и смежных наук ни докладывались работы. Таким способом он оказывался ориентированным во всех точных науках, и дальше уже было его дело — решить, куда направлять свое внимание. Все эти блага он имел как сотрудник Института физических проблем, тут даже ни к чему добавлять — как заведующий теоретическим отделом института.
Но этим дело не ограничилось. Отказавшись покинуть институт Капицы ради возможной собственной вотчины, Ландау, однако, на той же почве и под тем же кровом создал нечто иное, по-своему уникальное и, вероятно, более значительное, чем этот гипотетический институт теоретической физики.
При любви Ландау к строгости и порядку во всем, что касалось физики, это «нечто» в целом не имело четких организационных форм. Хотя, пусть такое звучит парадоксом, каждая из составных частей целого подчинялась точному внутреннему — а некоторые и внешнему — порядку и распорядку.
Как не имеющий организационных форм, этот незримый «институт Ландау» никем нигде не планировался и не утверждался. Никто его не финансировал, не выделял фондов, не составлял штатного расписания. Никакого чуда здесь нет. Потому что речь идет о комплексе, сложном, интереснейшем и весьма значительном, который называется «школа Ландау».
Конечно, об Институте физических проблем можно было и следовало написать гораздо больше. Впрочем, все, о чем будет рассказано дальше, там и происходило, в стенах этого института, и было проникнуто его духом.
ШКОЛА ЛАНДАУ
Ландау — учитель
Учитель. Да еще, как подчеркивают его ученики, с большой буквы — Учитель. Обычно с этим словом ассоциируется прежде всего солидность, маститость. Ландау пришел в Институт физических проблем, когда ему не исполнилось и тридцати. А до этого, как известно, был Харьков. Все, что так широко развернулось в Москве, началось в Харькове. Поэтому, когда речь идет о школе Ландау, то именно Харькову принадлежит право первородства. Молодой — в 24 года многие только кончают институт, со всей своей мальчишеской — в то время еще мальчишеской — экстравагантностью, Ландау стал Учителем именно тогда и именно так, с большой буквы. И задумал, затеял, начал осуществлять серьезнейшие вещи.
Учитель-мальчик. Одного возраста с учениками, а бывало, и моложе кое-кого из них, со многими на «ты» — вот знаменитая фраза Померанчука: «Мэтр, ты говоришь чушь». Но уважение и чувство дистанции ощущалось всегда.
Теперь мы немного начинаем привыкать к такому сочетанию вроде бы несочетаемого, а то ведь раньше казалось, что и «академик» — это не только ученый титул, но и чисто возрастное понятие. Академик, глава школы. И такой вот юноша Ландау путал все карты, не укладывался в каноны. '
Впрочем, не только этим Ландау со своей школой противоречил канонам. До сих пор его учеников не покидает чувство удивления, когда они вспоминают стиль, особенности, порядки, заведенные им. И правда, сравнивая школу Ландау с другими научными школами, подходя к ней с традиционными представлениями — традиционными именно потому, что они соответствуют действительному и распространенному положению вещей,— часто придется прибегать к отрицанию, к противопоставлениям.
В школе существовал, поддерживался свой неизменный микроклимат. Человек живет не в безвоздушном пространстве, и неправильно показывать его вне времени и изолированно от среды. Но если время и среда в глобальном, так сказать, масштабе в той или иной степени известны и понятны всем, и тут достаточно назвать лишь даты и место действия, то уже микросреда нуждается в описании, в том, чтобы быть как-то обрисованной, раскрытой. Как и все, Ландау действовал, существовал в коллективе, в некоей атмосфере. Но, коль скоро речь идет о школе, это была атмосфера, созданная им самим, и коллектив, им воспитанный и взращенный.
Рассказ о школе следует, пожалуй, начинать с территории. Ведь название «школа» вроде бы подразумевает пребывание под одной крышей. И обычно, во всяком случае на первых порах, первые годы ученики работают вместе со своим учителем — в одном институте, на одной кафедре, в одной лаборатории, в одном отделе. Но, как сказал Маяковский, «территории, собственно говоря, нет, только делают вид».
Сейчас существует Институт теоретической физики — ему присвоено имя Ландау и возглавляет его ученик Льва Давидовича И. М. Халатников. А теоретическим отделом Института физических проблем теперь заведует академик И. М. Лифшиц (И. М. Лифшиц скончался в октябре 1982 г). В свое время за независимость и самостоятельность Ландау прозвал его «удельным князем», но сам Илья Михайлович говорил, что он принадлежит к школе Ландау и что их связывала многолетняя дружба, личная и научная. Теоротдел сейчас занимает двухэтажную квартиру в доме сотрудников института. Появилась там и реликвия. В кабинете завотделом, в верхнем левом углу доски, обычно испещренной формулами, под плексигласовой дощечкой — чтобы сохранить навсегда — мелом автограф: P. A. M. Dirac. И дата посещения: 17 июля 1973 года. Последний на Земле из плеяды великих физиков XX века.
При Ландау теоротдел располагался в четырех маленьких комнатках в главном здании института. Это и была территория его школы. Или же территорией была квартира Ландау, ее второй этаж. Или же кусочек асфальта на нескольких метрах пути от квартиры до входа в институт. Или широкие коридоры института.
Так как и сам Ландау и его ученики были физиками-теоретиками, то не удивительно, что различные стороны жизни его школы сопряжены со словом «теоретический»: теоретический семинар, теоретический минимум, курс теоретической физики. В процессе формирования школы все эти «теор» стали теснейшим образом взаимосвязаны и взаимозависимы: главной действующей силой, докладчиками на теоретическом семинаре бывали, как правило, ученики Ландау; учеником считался тот, кто сдал весь теорминимум; чтобы сдать теорминимум, необходимо было хорошо знать и понимать книги «Теоретической физики». Кстати, это же было необходимо и для того, чтобы успешно доложить или выступить на семинаре. Потому что курс был неким словарем, основой общего языка. Тот, кто его понимал и свободно на нем изъяснялся, чувствовал себя своим. «Чужакам» же часто приходилось туго.
Школа, как всякий живой организм, развивалась, менялась во времени, эволюционировала. А значит, эволюционировали, и каждая по-своему, ее компоненты. В Харькове произошло рождение школы. Ландау был в поиске, нащупывал оптимальные решения. В Москве школа достигла полного расцвета. Позднее многочисленность и разветвленность ее приводили иногда к нарушению некоторых установленных традиций.
К примеру, желающих сдавать теорминимум постепенно стало уже столько, что сам Ландау просто физически не мог принимать экзамены у всех. И ему помогали в этом наиболее близкие ученики. Другой пример. Пока теоретический семинар был малочисленным, он оставался в большой степени однородным, и все активно участвовали в работе. Позже, когда он стал местом сбора — а бывало и паломничества — теоретиков Москвы, да и не только Москвы, разный уровень знаний, подготовки, просто другой научный стиль и подход затрудняли многим понимание происходящего, и таким образом возникала инертная, молчаливая «Камчатка».
О семинаре, пожалуй, можно рассказать больше конкретных вещей, чем, например, о теорминимуме, вспомнить больше эпизодов. Источник информации и о семинаре и вообще о школе, конечно же, единственный — это постоянные участники еженедельных семинарских собраний, ученики Ландау. Поэтому наш рассказ в значительной степени станет отражением их воспоминаний, здесь часто будут приводиться их слова и оценки.
Теоретический семинар
Каждый четверг, ровно в 11 часов утра... Нет, надо начать немного раньше. Еще нет одиннадцати. Но в коридоре уже толкутся теоретики. Прохаживаются, собираются в группы, оживленно обмениваются репликами. Там и здесь вспыхивают споры, возбужденный, увлеченный разговор. Предмет его,— конечно же, физика. Может, тема предстоящего семинара. Может, заинтересовавшая всех статья. Или работа кого-нибудь из присутствующих, ее неожиданный результат. Среди собравшихся мелькает высокая, слегка сутулящаяся фигура Ландау, «шагающего по широкому коридору с кем-либо из своих друзей-учеников и обсуждающего то ли только что появившуюся статью, то ли очередную «непробиваемую» задачу»,— вспоминает один из «друзей-учеников». Но чаще всего Ландау прогуливается с кем-нибудь из докладчиков предстоящего семинара, о чем-то они уславливаются, возможно, устраняют неясности. Словом, он, как художник, наносит последние мазки на полотно.
А кругом не утихает возбужденный гул, и вся атмосфера наполнена ожиданием. Подобное обычно бывает перед премьерой или вернисажем. Здесь такая обстановка перед каждым семинаром. Большинство участников и воспринимало семинар как праздник. Только праздник этот не стоит отождествлять с идиллией или со всеобщим удовольствием. Никакой идиллии не было и в помине. Да и удовольствие доставалось не всем. Шла напряженнейшая умственная работа. Не все ее участники оказывались на высоте. А потому немало было жестких инцидентов. И не видимых миру слез... И все-таки это был праздник.
Ландау очень серьезно относился к семинару, готовился к нему и продумывал, что будет докладываться,— семинары вовсе не были экспромтом. Если докладывалась не оригинальная работа, а обзор какого-нибудь журнала, то он сам помечал статьи, о которых следовало рассказать («Дау ставил «галочки» в «Физреве»,— эту фразу повторяют все. «Физрев» — «Physical Review» — американский физический журнал, очень серьезный и широко известный). Докладчики — его ученики, обычно они по очереди излагали журнальные статьи, выбирали из помеченного, о чем каждый будет говорить. При этом никакого отбора по тематике не было. Отбор шел только по уровню. Одновременно могло докладываться из термодинамики и из квантовой механики, один рассказывал о твердом теле, а другой — о чем-нибудь из ядерной физики или об элементарных частицах. И всем этим отбором Ландау занимался один. Из огромного потока информации он выбирал самое важное для уймы своих учеников. По тематической широте теорсеминар был единственным в своем роде. Это была колоссальная работа, которой Ландау занимался, начиная с Харькова, без малого тридцать лет.
«Докладывание на семинаре вменялось в святой долг всех учеников и сотрудников, и сам Лев Давидович с чрезвычайной серьезностью и тщательностью относился к отбору материала для докладов,— писал Е. М. Лифшиц.— Он интересовался и был равно компетентен во всем в физике, и участникам семинара часто было нелегко мгновенно переключаться вслед за ним от обсуждения, скажем, свойств «странных» частиц к обсуждению энергетического спектра электронов в кремнии. Для самого Льва Давидовича прослушивание докладов никогда не было формальностью: он не успокаивался до тех пор, пока существо работы не выяснялось полностью и в ней не отыскивались все следы «филологии» — бездоказательных утверждений или предположений, выдвигаемых по принципу: «почему бы не так».
Семинар для Ландау всегда был работой, подчеркивают ученики. Он все понимал от начала и до конца. Как вспоминает Я. А. Смородинский, каждый раз на семинаре происходило чудо — Ландау всегда знал любой вопрос лучше всех. Он быстро проделывал в уме те куски — выкладок, рассуждений,— которые не писали на доске. И никогда ничего не принимал на веру. Во время семинара — весь был внимание.
А случалось ли, что Ландау чего-то не понимал, что были заминки, или всегда семинар работал как идеально отлаженный механизм? Случалось — ведь это было живое дело. Иногда происходили сбои. Мы увидим, как Ландау вел себя в таких случаях.
Обычно же подготовка обеспечивала должное качество выступлений. Как правило, перед докладом происходил отдельный разговор с Ландау, особенно если докладывалась не журнальная работа, а собственная, оригинальная. Ландау старался, чтобы докладчик хорошо подготовился и оставался на высоте. Но по-настоящему из всех участников семинара только он сам неизменно бывал готов к нему.
При этом единственным, кто не докладывал на семинаре, был именно Ландау. Здесь он выступал как учитель в чистом виде; учитель, который слушает и поправляет — и направляет — своих учеников. Здесь была его школа, где он учил физическому мышлению, восприятию, подходу. «Это была жесткая вещь,— вспоминает Ю. М. Каган.— Ландау вытягивал докладчика на себя — чтобы линия была прямая, правильная. Докладчик шел на него. Аудитория могла всего и не понимать, семинар был весьма непростой для слушателей. Но потом осознавали, как правильно Ландау поставил вопрос. Возникали новые повороты, новые линии проблемы — вперед, в стороны — и для самого докладчика и для тех, кто занимался близкими вещами».
Да, все в точности так и было. Учитель в чистом виде. При этом неверно заключать, что во взаимоотношениях с учениками Ландау оказывался только «дающей стороной», чем-то вроде «дойной коровы» (хотя как раз и бытовало выражение «доить Ландау»; мало кто из теоретиков упускал возможность обсудить с ним свою работу — если полагал, что ее не страшно показать Дау, — или перехватить у него кое-какие идеи, выслушать его суждения об интересных чужих работах).
Но и сам Ландау не оставался в накладе. В отношениях его с учениками все было так тесно переплетено, связано в такой клубок, что часто и не определишь, где причина, а где следствие. Действительно, хотя масса сил и времени отдавалась семинару, его организации, подготовке к нему, разговорам с докладчиками, но Ландау много и получал от семинара. И вообще от своих учеников.
Причем отдача оказывалась не чисто духовной, почти эфемерной, вроде резерфордовского «ученики заставляют меня оставаться молодым» — молодости Ландау было не занимать,— а вполне, можно сказать, материальной.
«На слух». Узнавать новое в физике на слух. Больше того, на слух постигать и понимать всю теоретическую физику, любой ее раздел. Не приходится удивляться, что этот «феномен Ландау» давно уже вошел в легенду. И вправду, трудно вообразить, что можно таким вот способом вобрать в себя огромное количество сложнейших и разнообразнейших явлений, теорий, работ, статей, концепций, выводов, формул — словом, всего того сложнейшего многозвенного механизма, который представляет собой современная теоретическая физика. Вобрать, просеять, нестоящее выкинуть, а важное запомнить навсегда. То, что надо, не просто откладывалось у него в памяти. Как у классного хирурга инструментарий разложен так, что необходимое всегда под рукой, так и у Ландау этот огромнейший арсенал знаний всегда был «готов к употреблению». Все, что требовалось в данный момент, неизменно оказывалось «под рукой».
Потому что универсализм Ландау заключался не только в том, что он очень много знал об очень многом из разных ветвей, разделов теоретической физики. У него была своя концепция всей теорфизики. Он ее видел, представлял себе, ощущал как взаимосвязанную систему, как единый организм. И все новое, что он узнавал, ложилось, как в сотах, в определенную ячейку. Можно было бы сказать — в определенную ячейку памяти, если бы эти слова не звучали теперь как чисто кибернетический термин.
Источником информации обо всем, что происходит в физике, были для Ландау именно семинары и вообще всяческое иное общение со своими учениками — разговоры, обсуждение их работ и журнальных статей. «Я не представляю себе, как Ландау мог бы так успешно работать в таком количестве областей физики без своих учеников,— писал П. Л. Капица.— Эта работа осуществлялась в непрерывных беседах и регулярных семинарах, где сам Ландау был наиболее активным членом. Ученикам Ландау щедро отдавал свое время и давал им большую свободу в выборе темы, и их работы публиковались под их именами. Но и сам Ландау получал много от своих учеников. Одной из особенностей научной работы Ландау было то, что он сам не читал научной литературы, читали ее его ученики и рассказывали ему».
Так, подобно бумерангу, отданное возвращалось к нему. Обе стороны выигрывали и обогащались.
«За тридцать лет, что я знал Ландау, я видел его с книгой только раз. Все, что надо, он усваивал «с голоса» учеников, в частности, во время их докладов на семинаре»,— вспоминал Александр Компанеец; кстати, в списке физиков, сдавших теорминимум, который Ландау собственноручно составил перед катастрофой, Компанеец значится под номером 1. Он сдал первым еще в 1933 году.
Слова Компанейца относятся, конечно, к специальным научным книгам и журналам. Другое — художественную литературу, книги по истории — Ландау читал, и читал много. Так, историю он просто очень любил и знал отлично. Там бывал ему по большей части интересен весь текст. В работах же по физике многое было не нужно, раздражало даже — рассуждения, аргументация автора, его выкладки, способ доказательства. Обычно Ландау интересовался только идеей и результатом. А весь промежуточный путь проделывал сам и по-своему.
Нельзя сказать, что эта особенность Ландау была врожденной. В свои юные ученические годы, в школе и университете и еще какое-то количество лет после того он жадно и постоянно читал физические работы. Да и кто бы ему их рассказывал в то время... Только в Харькове, вместе со всем комплексом действий по созданию школы, вместе с осознанием себя учителем, пришел этот способ общения — или обращения — с физической литературой, который тоже постепенно эволюционировал.
Сперва, когда появлялся новый журнал, Ландау сам просматривал все статьи и записывал те, которые казались интересными: в одну тетрадку — теоретические работы, в другую — экспериментальные. Участники организованных им общеинститутских теоретических семинаров (таких в Харькове было два — один для теоретиков, другой для экспериментаторов) выбирали себе работы по вкусу и докладывали их.
Ландау зачеркивал в тетрадках как уже доложенные статьи, так и те, которые оказались неинтересными. Тогда же возник и термин «патология». Приговор был окончательным, обжалованию не подлежал — Ландау терял интерес к такой работе, а нередко и к ее автору, случалось, даже навсегда. Зато с другой стороны «теоретической тетради» шел список статей, отнесенных Ландау к «золотому фонду». Это были работы непреходящего значения по своим идеям или результатам. Такое Ландау запоминал — и тоже навсегда.
Записи эти Ландау вел до 1941 года. Но работ стало появляться так много, что уже невозможно было все записать. Только «золотой фонд» продолжал еще пополняться. А потом началась война...
Итак, четверг, 11 часов. Все уже сидят. Семинар сейчас начнется. (Если только кто-нибудь, взглянув на часы, не скажет: «Давайте начинать, осталась всего минута». «Ждем еще минуту»,— отвечал Ландау. И здесь, бывало, вбегает запыхавшийся Мигдал. Так или иначе, истекала «мигдальская» минута, и в «одиннадцать ноль-ноль» начинался семинар.)
Что поражало свежего человека, впервые присутствовавшего на семинаре? Прежде всего, упомянутая уже тематическая широта, то, что на семинаре рассматривалась и обсуждалась вся теоретическая физика в ее, так сказать, сиюминутном состоянии. «Для физиков моего поколения необычайная широта семинара была привычной,— вспоминает один из учеников.— Все знали: на семинаре можно выступить с работой из любой области теоретической физики. И не просто выступить, но и получить квалифицированный совет. Либо во время доклада, либо до — на предварительном обсуждении с Дау».
Действительно, наших теоретиков Ландау своим личным примером и своей педагогической тактикой приучил относиться ко всей теоретической физике как к единому целому. Именно так надо было ее воспринимать, знать и понимать, и в ней работать. Жизнь во всей физике целиком для его учеников стала бытом. И только отстранясь от этого быта, особенно когда Ландау уже не было с ними, они как бы задним числом осознали и полностью оценили то, что им было дано, и вроде бы поразились тому, чему привыкли не удивляться в свое время.
Один из западных физиков напомнил о таком любопытном факте. В 1930 году, находясь у Бора в Копенгагене, трое молодых, Вайскопф, Пайерлс и Ландау, поставили себе целью — на будущее — заниматься всей теоретической физикой. Прошло более двадцати лет. В Советский Союз стали приезжать ученые из Европы и Америки. Тогда-то и вспомнили об этом «разговоре трех». И выяснилось, что лишь Ландау осуществил давнее решение. Оно воплощалось в его работах. И особенно зримо и впечатляюще — на семинарах. По словам гостей, это их ошеломило. Потому что не было такого нигде — чтобы семинар по всей теоретической физике одновременно. Американцы, вернувшись домой, в одном из журналов опубликовали отчет о поездке, где было сказано, что такого физика, как Ландау, в Соединенных Штатах нет...
Начинается очередной семинар. Проходит несколько минут, и Ландау уже все понимает лучше докладчика — даже если тот рассказывает не о журнальных статьях, а о своей собственной работе. Эта способность разом все схватить, уловить все тонкости, дать свой вывод была, по общему мнению, уникальной.
И на «капичниках», общеинститутских семинарах, которые вел Капица, происходило то же самое. О чем бы ни был доклад — о любой из областей экспериментальной или теоретической физики, а также пограничных с ней науках, связанных с биологией, химией, техникой,— всегда сохранялся один и тот же «регламент»: первым вскакивал Ландау и задавал вопрос. И этот вопрос, а потом и высказывания Ландау ни у кого не оставляли сомнений, что он уже проник не только в суть задачи, но и увидел ее глубинный план, и сложности ее, и выводы, которые можно сделать, и связь ее с другими проблемами. Так бывало постоянно — множество раз тому был свидетелем и автор этой книжки.
Лаконично объяснил этот феномен М. И. Каганов: «В Ландау поразительным образом сочеталась быстрота реакции с осведомленностью и глубиной понимания. Ничего похожего ни у кого я не видел».
Казалось бы, можно, наконец, привыкнуть, если наблюдаешь такое на каждом семинаре. Но нет, привыкнуть не удавалось. Заранее ожидая эту молниеносную реакцию, все равно не перестаешь поражаться, если действие разыгрывается на твоих глазах.
И когда различные физики, не только ученики Ландау, но и теоретики других школ, и экспериментаторы рассказывали ему о своих работах, то через пять — десять минут он был полностью в курсе задачи, мог ее оценить и дать правильный совет.
«Ландау знал все, потому, что его все интересовало,— так сформулировал суть дела Компанеец.— По-видимому, не скоро будет среди физиков-теоретиков ученый с такой обширной эрудицией. Живые творческие знания, соединенные с абсолютной ясностью понимания предмета во всех оттенках»,— вот на чем основывался его удивительный дар.
На своем семинаре Ландау, конечно, не сидел ни за каким председательским столом, да такого и не было. Сидел среди слушателей. Но всегда в первом ряду — так проще и быстрее подбежать к доске. И на «средах» у Капицы он тоже сидел впереди — по той же причине.
Так получалось, что докладчик на теорсеминаре обычно обращался прежде всего к Ландау. Хотя к самому докладчику обращалась — прерывала его, задавала вопросы, указывала на ошибки, иронически комментировала какие-то фразы и выкладки — вся аудитория.
Семинар был всегда рабочим. Это тоже было его отличительной чертой. На нем непрерывно шла интенсивная работа мысли, работа познания. И даже внешне всегда соблюдался четкий распорядок: точное начало и окончание заседаний, постоянные, в одно и то же время, каникулы. А главное, самое существенное, что Ландау никогда не успокаивался до тех пор, пока все в обсуждаемом вопросе не прояснялось, он старался, чтобы все поняли все до конца.
Но эта деловитость на взгляд постороннего выглядела воплощением «антиделовитости». Шум, выкрики, вопросы, докладчика все время прерывают, перебивают, кусают, идет обмен острыми репликами, не постесняются сказать: чушь, глупость, бред, патология — и похлеще. Однако шум и внешний бедлам были особого свойства — «шумели» только по делу, по существу работы или доклада, или всей проблемы. Нельзя было — такого не припомнят — отвлечься, уйти в сторону от обсуждаемого вопроса. Или, что так привычно для научных и не научных сборищ, рассказать, к примеру, последний анекдот. В стенах, где проходил семинар, такое начисто исключалось.
«О семинаре и его научных достоинствах я, конечно, знал до того, как впервые на нем побывал. И все же семинар поразил. Поразил прежде всего своей атмосферой,— вспоминал М. И. Каганов.— Четко ощущалось: люди, собравшиеся в зале, живут теоретической физикой. Я написал последнюю фразу и понял, что недостаточно выражаю свою мысль... В семинаре принимали участие разные люди — и по возрасту, и по положению, и по квалификации, и по внешнему виду, но всех объединяло одно: происходящее на семинаре интересовало их более всего в жизни. Страсть, с которой выступали, огорчения, которые испытывали, когда их прогоняли от доски (такое случалось нередко — докладывать было трудно), не омрачались никакими побочными соображениями. На семинаре господствовала наука — наука как таковая. Я не помню ни одного случая, чтобы на семинаре проявились личные отношения между его участниками, чтобы споры, которые вспыхивали часто и редко пресекались, были связаны с симпатией или антипатией к выступающему, а не к задаче или методу ее решения. На семинаре царила полная демократичность».
О духе, присущем семинару, хочется говорить высокими словами, а той «казацкой вольнице», которой оборачивалось семинарское собрание, высокие слова не только противопоказаны, они просто никак с ней не сочетаются. И тем не менее все, что происходило на семинаре, весь его быт имели в своем «подтексте» именно созданную Ландау атмосферу и никоим образом ей не противоречили.
Я. А. Смородинский подчеркивает, что редкая и одна из главных особенностей семинара заключалась в огромном интересе и уважении к тому, что сделали другие. Ироничность и резкость могли относиться к способу мышления докладчика, к допускаемым им ошибкам, но никогда — к нему самому.
Такая обстановка создавалась всем духом школы Ландау и собственным его отношением к физике.
В связи с этим хотелось бы привести некоторые высказывания Игоря Евгеньевича Тамма, прежде всего те, которые запомнились академику Вонсовскому: «Как-то у нас зашел разговор о Л. Д. Ландау. Игорь Евгеньевич необычайно высоко ценил этого замечательного физика нашего времени, всегда восторгался его работами, его изумительной интуицией». О подобной же оценке говорят и ученики Тамма, подчеркивая при этом, что у Ландау с их учителем, несмотря на различия характеров, были прекрасные отношения. (Кстати, Ландау еще в молодости шутливо сказал, что если человеку больше 30 лет, то это такой недостаток, который можно скомпенсировать какими-то сверхдостоинствами; у Тамма такие достоинства есть, добавил он уже вполне серьезно.)
«Я спросил Игоря Евгеньевича, как он расценивает очень «жесткую», а порой «уничтожающую» критику Льва Давидовича,— продолжает Сергей Васильевич Вонсовский.— Немного помолчав, он улыбнулся и сказал, что критика Ландау всегда очень полезна. Его гениальный критический ум безошибочно вылавливает все слабые места. Автор часто, конечно, при этом спускается с «небес» на «землю», но если верит в свои силы, в правильность самой постановки задачи, то он должен не опускать руки, предаваясь «стенаниям», а испить горькую критику как некую целебную воду и дальше идти в бой к конечной победе».
Этой «программе» следовал и сам Игорь Евгеньевич Тамм. Однажды, вспоминая Эренфеста, он сказал:
— В обсуждении новых работ, в выявлении их глубокой физической сути Эренфест не имел себе равных. Вот и Дау, например. В критике конкретной теории он великолепен. Правда, если о какой-либо моей общей идее он отзывался в характерной для него категорической форме («Чепуха!»), я считал, что вопросом этим следует заниматься.
То же самое он советовал и своим ученикам: «Если кому-либо из нас предстоял научный разговор с Ландау, то Тамм напутствовал нас так:
— На замечания Ландау «общего» характера (типа «это бред!», «этого не может быть!» и т. д.) не обращайте внимания. Однако как только Ландау начнет говорить что-либо конкретное по работе, то сразу превращайтесь в слух и не зевайте!»
Если шел разговор про науку — конечно, серьезный и интересный,— Ландау просто не мог не слушать и не принимать участия в нем; также не мог он и соглашаться с тем, чего не понимал или что казалось ему неправильным.
Часто бывало, вспоминает Ю. М. Каган, что идет такой перемежающийся разговор, про физику и не про физику. Ландау очень мил, хорошо разговаривает. Как только подошли к чему-то серьезному в физике — он сразу выключается из разговора и начинает думать, погружается в мысли, связанные с этим физическим вопросом.
Эту поразительную способность мгновенно от всего отключаться и вдумываться в какой-то сейчас возникший физический вопрос отмечают многие. В такие моменты Ландау весь в данной работе, думает лишь о ней, и с такой поглощенностью, будто решается мировая проблема. Хотя может решаться всего лишь сугубо частная задача.
Помимо упомянутого уже гласного регламента или распорядка семинарских занятий, существовал еще некий негласный или, точнее, неписаный регламент и распорядок. Если первый обрисовывал внешние рамки занятий: четверг, 11 часов, через час перерыв и т. д., то второй касался внутренней жизни семинара и походил скорее на «антипорядок» — очень многое в установлениях, в поведении, в быте и стиле самого Ландау и его школы на чужой, поверхностный взгляд представлялось прямо противоположным тому, чем было в действительности.
— Никакого доклада сделать не дают! — обычно так впервые попавшие на семинар (свои уже привыкли) формулировали суть этого «внутреннего регламента».
Действительно, во время доклада в любую минуту, в любом его месте каждый из присутствующих имел право перебить докладчика вопросом, замечанием, поправкой, выражением несогласия. И все, начиная с Ландау, этим правом широко пользовались. Причем реплики аудитории никакими извинениями не сопровождались и их отнюдь не отличала чрезмерная деликатность. Ландау шум этот совершенно не смущал и не мешал ему.
Для «своих» такой порядок действовал всегда. Если же выступал посторонний, гость, то он, бывало, просил не прерывать его до конца. Это с трудом, но соблюдалось.
И еще был неписаный кодекс поведения на семинаре. Постоянные участники его, особенно ученики Ландау, четко знали, что надо и чего нельзя уметь и не уметь, делать и не делать.
К сожалению, чисто теоретического знания далеко не всегда бывало достаточно.
Прежде всего — пусть не прозвучит тривиально — следовало отчетливо понимать работу, понимать то, что рассказываешь. И существо и детали докладчик должен был хорошо продумать и знать, составить себе о них ясное представление, уметь надлежащим образом подать их, донести до слушателей и не слишком затрудняться, отвечая на реплики и вопросы.
Нет, пожалуй, еще более важно было качество докладываемой работы, ее состоятельность. Если, к примеру, оказывалось, что собственная работа докладчика не стоит того, чтобы выносить ее на обсуждение, если автор не мог доказать ее ценность и новизну или просто запутывался, не умел изложить толково, то его, как уже говорилось, прогоняли от доски безо всякой жалости.
Очень важно было не только что, но и как докладывать. Сошлемся опять на М. И. Каганова: «Научная близость, сильное взаимодействие породили своеобразный язык научного общения. Язык, который хорошо понимали все физики-теоретики, близкие Ландау (стоит подчеркнуть очень высокий профессиональный уровень школы Ландау), и к которому надо было по меньшей мере привыкнуть. Свою работу необходимо было «уметь рассказать». Некоторым это давалось легко, а другие, даже делавшие вполне хорошие работы, так и не сумели постичь премудрости языка Ландау».
Но, кроме знания «языка», нужно было уметь говорить лаконично и четко. И еще исключались эмоции. Точнее, эмоции могли относиться к сути дела, но никак не к собственным переживаниям. Последние вообще категорически возбранялось выносить на всеобщее обозрение.
При всем том на семинаре господствовала, если можно так выразиться, изначальная доброжелательность, тон которой задавал Ландау. Перефразируя часто и во многих вариантах употребляемую формулу, он говорил; «Автор обычно бывает прав». Этой преамбулой и начинался семинар.
Сам умевший достаточно остро и больно кусаться, Ландау всегда поначалу защищал докладчика и большей частью становился на его сторону.
— Давайте ответ, наконец,— нетерпеливо требует кто-то, кому надоели подробные, долгие выкладки.
— Подожди, подожди,— останавливает его Ландау.— Не мешай. Здесь надо получить точное решение.
Но случалось, что докладчик окончательно запутывался, или делал грубую ошибку, или проявлял некомпетентность. И тогда следовало — как приговор:
— Алеша, что у нас дальше?
А казалось бы, такие ничего не значащие слова. Поднимался А. А. Абрикосов, секретарь семинара, и говорил:
— Дальше у нас...
Вся эта жесткая процедура отражала лишь сверхсерьезное и ответственное отношение Ландау к физике — ничего другого.
Эренфест видел большое сходство в способе мышления Паули и Ландау, а также в их подходе к проблемам физики, в стиле их творчества.
По общему мнению, совпадали они и еще в одном: в острокритических способностях и в острых оценках и собратьев-физиков — как принято говорить, невзирая на лица,— и их работ.
Паули в таких случаях не стеснялся в выражениях и не подбирал слов помягче. Он был язвителен, безжалостен, а «пострадавшему» казалось, что и просто груб. Однако в этой часто весьма обидной по форме критике заключалось важное и полезное содержание. Паули бескомпромиссно воевал с ошибками, и лишь потом — с упорствующими в них физиками. Все это полностью относится и к Ландау.
Даже Бору, вспоминают очевидцы, доставалось от Паули.
— Замолчите! — крикнул он однажды Бору.— Не стройте из себя дурака!
— Но, Паули, послушайте...— мягко возразил Бор.
— Нет. Это чушь. Не буду больше слушать ни слова.
А во время одной конференции в кулуарном разговоре Паули точно так же оборвал Ландау, и когда тот попытался объяснить или объясниться, ответил:
— Ах нет, Ландау, подумайте сами.
Близко знавшие Ландау говорят, что сцена выглядела весьма неординарно. •
...В общем-то, было известно, какое поведение на семинаре начисто противопоказано его участникам. Не дай бог обронить докладчику хоть слово о том, как долго не находилась идея, или трудно далось решение, или как первоначально выбранный путь оказался ложным и не привел к цели, или поделиться еще какими-то подобными «домашними подробностями». Тут же следует молниеносная и жесткая реплика:
— Это интересно только вашей жене.
Или вдруг ошибка в вычислениях, которую докладчик не замечает, или, когда обратили его внимание, не может быстро исправить — и снова привычный для окружающих текст:
— Этому еще мама должна была вас научить.
Чего категорически нельзя было делать — это обижаться и на Ландау, и на аудиторию. Следовало отругаться, а еще лучше — остроумно ответить на выпад. Такое весьма ценилось, и любой инцидент этим исчерпывался. Если же кто-то чересчур самолюбивый или не постигший поведения в школе Ландау показывал, что он обижен, ущемлен, то для него складывалась такая обстановка, что в конце концов он совсем уходил из семинара.
Справедливости ради надо сказать, что и сам Ландау не был застрахован от острых реплик. И парировал их, а не становился в позу обиженного. Правда, не следует думать, что внешнее равенство отношений отражало и полное внутреннее равенство. При всем демократизме Ландау, искреннем и органичном, существовала в его отношениях с учениками некая грань, которую нельзя было переступить. Была граница, хотя никакими зримыми вешками она не обозначалась. Создал ее перепад в классе, масштабе, одаренности, знаниях, возможностях — словом, во всем том комплексе, который зовется Ландау-физик. Отношения учителя с учениками несколько напоминали сеансы одновременной игры, игры гроссмейстера с мастерами — пусть очень высокого класса. «Хотя он держался с учениками очень просто и со многими "был на «ты», все мы воспринимали его как неизмеримо старшего во всех отношениях,— вспоминает А. С. Компанеец.— Льву Давидовичу удалось осуществить все, что составляет идеал педагога, кроме одного: ни один ученик не превзошел своего учителя».
Хотя фраза «автор обычно бывает прав» стала расхожей, но в действительности почти всегда правым оказывался Ландау. Ошибался он очень редко. И свою правоту отстаивал до конца. Если же все-таки убеждался в собственной ошибке, то всегда признавал ее и тогда сразу соглашался с оппонентом. Он с большим уважением относился к тому, кто мог доказать ему его неправоту. Или сумел сделать работу (сосчитать, придумать метод, получить решение...), которую, по словам Ландау, сделать трудно. Возможно, такое отношение было оборотной стороной медали — следствием того самого уважения, с которым он относился к себе как к физику. Ценил он также и собственный подход в работах своих учеников, и их «научную независимость».
Случаев, когда Ландау оказывался не прав или как-то иначе оставался в накладе, в проигрыше, было наперечет. Вероятно, именно поэтому каждый такой эпизод запоминался.
На одном из семинаров аспирант докладывал журнальную статью.
— Точного решения у этого уравнения нет,— говорит аспирант.
— Этого не может быть,— сразу возражает Ландау. Аспирант к докладу подготовился давно и уже успел подзабыть какие-то детали. Поэтому он не может ничего убедительно доказать, но все же упрямо повторяет:
— Правда, правда, нету решения.
— Принесите журнал,— посылает Ландау в библиотеку незадачливого, казалось бы, докладчика, И, потирая руки, предвкушает: — Сейчас я его с кашей съем.
Журнал принесен. Ландау смотрит, разочарованно и в то же время словно бы оправдываясь, тянет:
— А-а-а, в этом смысле...
А вот как вел себя самый стойкий докладчик. Однажды он рассказывал о каком-то явлении в полупроводниках. Взял мел и начал проводить на доске линии.
— Сначала формулу,— говорит Ландау.
— Сейчас напишу формулу,— отвечает докладчик, а сам снова рисует оси координат.
Этот их диалог повторяется еще и еще. На десятый раз Дау говорит:
— Черт с вами, рисуйте...
Так, покорно соглашаясь, выражая высшее смирение и уважение, невозмутимый докладчик все делал по-своему. А Ландау, конечно, всю эту хитрость отлично понимал. Но мирился с ней. Подобный прием назывался «алгоритм Пекара» — по имени его «изобретателя».
Однако такое мало кому сходило. И вообще совсем не просто возникала взаимопонимание с Ландау.
«Первый комплекс впечатлений был для Ландау очень важным и в отношении людей, и в отношении теорий,— рассказывает М. И. Каганов.— Неудача при знакомстве (сказал глупость, может быть, от волнения, проявил некомпетентность в области, которой занимался, или что-нибудь в этом роде) часто навсегда лишала человека возможности тесного общения с Ландау. Иногда к таким неудачникам Ландау был явно несправедлив. Вполне приличный физик мог в первый раз произвести впечатление «патолога», по оценке Ландау,— и все».
Каждая подобная оценка пересматривалась с трудом.
— Он всегда был лодырем,— сказал, как вспоминает А. Ф. Андреев, Дау про одного физика. Это было несправедливо, но слова Дау означали, что он едва ли изменит "мнение.
Даже близких учеников Ландау мог и совсем «отлучить от церкви». Недаром гуляет немало рассказов о его жесткости и «жестокости». Кстати, отлучал он не только за несостоятельность в физике, но и за недостойное поведение в жизни.
Когда же ошибка была терпимой, простительной или случайной, Ландау стремился помочь с ней справиться. Бывало, вспоминает Я. А. Смородинский, обруганный им физик приходил в отчаяние и решал, что если жить еще, может быть, и стоит, то уж на работе надо поставить крест. Но оказывалось, что единственный, кто ночью думал о неполучившейся задаче или запутанном вопросе, был Дау. Наутро он звонил «потерпевшему», сообщал ему результат, и отношения восстанавливались.
Обычно Ландау четко понимал весь рассказ докладчика и его ничем нельзя было сбить — ни шумом, царящим на семинаре, ни репликами и вопросами. Однако случалось, хотя и крайне редко, что докладчик не только запутывался сам, но и запутывал Ландау, и тот вдруг что-то переставал понимать — в постановке ли задачи, в математических выкладках или в результатах. Тогда он прекращал семинар и в коридоре устраивал докладчику разнос по хорошо разработанной партитуре:
— Я должен вас поругать,— начинал выговаривать Ландау.— Вы не физик, а...
Затем разговор становился нормальным.
Часто он продолжался и вечером, по телефону. Все время раздавались звонки, что-то еще уточнялось, выяснялось до тех пор, пока не наступала полная ясность. Тогда снова собирался семинар, повторялся доклад в такой форме, чтоб вопрос стал понятен не только Ландау и докладчику, а и остальным участникам. И все приходило в норму.
Теоретический минимум
В рассказе о семинаре не раз повторялось, что он был явлением особенным. Хотя вообще семинары — обычная в научной среде форма общения, а также и приобщения к знаниям. Просто не было подобного тому, который организовал и вел Ландау. Что же касается теоретического минимума, то надо сказать уже безо всяких оговорок, что это создание Ландау было совершенно уникальным.
...Не так-то много любителей сдавать экзамены — чересчур нервное занятие. Правда, Ландау и на сей случай придумал теорию: тот, кто сдает ради отметки, не любит экзаменоваться, а тот, кто ради знаний, любит.
Но независимо от теории и независимо от любви всем нам, за самым малым исключением, приходилось и приходится сдавать экзамены. Сдают их, в общем-то, по необходимости — для чего-нибудь. При окончании школы — для получения аттестата. При поступлении в вуз — для того, чтобы поступление состоялось. При окончании института — для получения диплома. И наконец, кому приходит пора кандидатского минимума — для защиты диссертации и получения ученой степени. Успешно сдавая экзамены, мы всегда что-то получаем, что-то приобретаем, что-то выигрываем. Причем получаем отнюдь не одно только моральное удовлетворение, а по большей части и вполне ощутимые материальные привески.
Тот, кто сдавал теорминимум Ландау, ничего, абсолютно ничего в таком смысле не приобретал и не получал. А сдавать его, между прочим, было ох как нелегко. Сорок три фамилии стоят в составленном Ландау списке. А попытки были у многих. Всего сорок три за период с 1933 года по 1961-й — главным образом из Харькова, Днепропетровска, Москвы и Ленинграда.
Естественно, возникает вопрос: что же это за барьер, преодолеть который оказалось под силу столь немногим? На этот вопрос мы постараемся ответить. Заранее скажем лишь, что он отнюдь не принадлежит к типу «потенциальных барьеров», сквозь которые удается проникнуть благодаря «туннельному эффекту». Всякое «просачивание сквозь» здесь никогда не проходило. Только — преодоление. Только, вспомним слова Пастернака, «поверх барьеров».
Казалось бы, теорминимум Ландау ближе всего к кандидатскому минимуму (даже названия похожи). На самом деле они весьма различны. В одном случае сдается спецпредмет, спецкурс. У Ландау же сдается вся теоретическая физика. Да плюс еще математика в том виде, в каком она потребна для теоретика. Не говоря о том, что «минимум» Ландау, пожалуй, и обширнее, и глубже, и сложней почти любого «максимума», которым владеют многие теоретики.
Идея теорминимума, как известно, возникла у Ландау во время его работы в Харькове. Он сам придумал такой способ подготовки физиков высокого профессионализма и сам разработал программы экзаменов.
Первоначально, так же как он вел в УФТИ два теоретических семинара — отдельно для экспериментаторов и для теоретиков,— он составил и два варианта программ. Впоследствии же ограничил себя подготовкой только теоретиков.
Здесь едва ли место рассказывать о содержании программ, о том, что следовало знать в каждом из разделов теоретической физики (в общем-то, следовало знать все самое существенное) и в каком порядке сдавались разделы. Нам интересны принципы. К ним относится в первую очередь широта, универсальность программы. Это все равно как если бы в наш век специализации, притом достаточно узкой, от врача, например, отоларинголога, потребовали бы не только глубокого (а не студенческого) знания анатомии и физиологии всего человеческого организма, но и взаимодействия различных его функций, и возможных заболеваний, отклонений от нормы. Ведь накапливается все больше доказательств теснейших и интимнейших связей и взаимовлияний решительно всех частей нашего организма, и лишь такому вот сверхклассному врачу под силу осуществить главный принцип, так сказать, идеал медицины — лечить не болезнь, а больного. Между тем этот идеал осуществляется редко. Именно потому, что мало медиков отвечает труднодостижимому идеалу врача — быть универсально эрудированным и уметь активно использовать свою эрудицию.
Так и в физике. Обычно, в том числе и при сдаче кандидатского минимума, теоретик входит в какую-то определенную задачу, проблему, область физики наконец. Ученики Ландау входили, окунались во всю теоретическую физику, как в нечто единое и целое. Он воспитывал и формировал теоретиков широкого профиля, способных заниматься разными вопросами и без особых затруднений переходить из одной области в другую.
Независимо от будущей специальности или рода работы каждый из учеников должен был овладеть установленным Ландау минимумом знаний и умением свободно оперировать этими знаниями. «Разумеется, он не требовал ни от кого быть универсалом в той же степени, в которой он был сам. Но здесь проявлялось его убеждение в целостности теоретической физики как единой науки с едиными методами»,— писал Е. М. Лифшиц.
Главное в теорминимуме — это, так сказать, далекое боковое зрение, которое приобретали ученики Ландау, говорит один из них. Оно давало возможность легко переключаться на разные, в том числе совершенно новые задачи. Хотя выучить по-настоящему весь теоретический минимум было очень трудно. Надо было пожертвовать двумя-тремя годами жизни. Да и это далеко не всех приводило к успеху.
В принципе теорминимум мог сдавать каждый желающий. Процедура была неизменна и предельно проста. Следовало лишь позвонить по телефону и сказать, что хочешь сдавать экзамены. И Ландау тут же назначал время. Отказа не было никому. Равно как и ссылок на собственную занятость, перегруженность делами.
Ни позиция Ландау, ни такое его поведение, скажем прямо, отнюдь не были общепринятыми. И главное, они не менялись, как выражаются физики, во времени. А точнее, на них никак не влияли внешние отличия: выбран академиком, стал Героем Социалистического Труда. Ландау всегда была присуща истинная внутренняя демократичность.
Конечно, тут не стоит умиляться. Потому что все правильно. Но сколько мы знаем обратных примеров. Был милый, простой, привлекательный человек. Стал он, предположим, академиком. И будто подменили. Да, он теперь и вправду очень зянят, у него появилось много дел и обязанностей. Но, кроме того, и собственное время, которым он может располагать по своему усмотрению, приобрело для него некую добавочную ценность (так и тянет сказать: прибавочную стоимость). И вот вчера еще хорошо знакомый, вполне доступный для нормального общения человек сегодня становится чем-то вроде небожителя. Доступ к нему если и не заказан вовсе, то сильно затруднен. И уже появляется секретарь как необходимая промежуточная инстанция...
Все это было чуждо Ландау. Недаром Шальников назвал его «самым не важным человеком на свете». Другое дело, что он, по его собственным словам, любил «покрасоваться». Например, поразить остроумной или парадоксальной репликой. И получалось это у него забавно, словно веселая игра, а главное — никогда не затрагивало вещей серьезных.
В статье «Живая речь Ландау» (см. Приложение) Е. М. Лифшиц опубликовал и прокомментировал ответы Ландау на письма к нему различных незнакомых людей, так или иначе интересующихся физикой. Все они подписаны просто «Ваш Ландау», «Ваш Л. Ландау».
А вот строки из этих ответов Ландау.
«Посылаю Вам программу «теоретического минимума», которую Вы можете (если хотите) сдавать мне и моим сотрудникам раздел за разделом... Мои телефоны тоже указаны в программе. Бояться меня не стоит — я вовсе не кусаюсь».
«Я охотно помогу Вам... Я бы рекомендовал Вам следующую программу обучения... После этого позвоните мне по телефону (лучше всего от 9.30 до 10.30 утра, когда я почти всегда дома, но можно и в любое другое время) и приходите ко мне. Я проэкзаменую Вас и дам Вам программу для дальнейшего обучения».
Позвонить по телефону. И все — «допущен к экзамену».
— Для сдачи этих экзаменов никаких документов предъявлять не нужно,— говорил Ландау.
Столь же простой и неизменной была и процедура самих экзаменов. Ландау приглашал экзаменующегося в комнату, давал ему задачу и уходил к себе. Потом возвращался и смотрел, сделана ли задача. (Весь экзамен состоял из задач, теорию он не спрашивал, чисто теоретических вопросов не задавал.) Если задача была готова, то Ландау тут же давал следующую. В противном случае говорил:
— Что-то вы медленно делаете. (Едва ли такое замечание усиливало продуктивность серого вещества.)
Но вот что удивительно. Большей частью задачи были одинаковые, одни и те же. Все это знали. Знали, какие задачи. И Ландау знал, что все знают.
Как же так? Какие же это экзамены? Да и как можно не сдать в подобной ситуации?
— Очень просто,— отвечает Лифшиц.— Задачи, во-первых, могли слегка варьироваться. Но главное, если человек знал, как решаются все эти задачи, мог их решить, значит, он знал и,— подчеркивает Евгений Михайлович,— понимал все, что нужно знать и понимать в теоретической физике, чтобы свободно работать в ней. А ведь в этом и была цель теорминимума.
Первым всегда был экзамен по математике. Ландау неизменно подчеркивал и объяснял необходимость именно такого порядка сдачи теорминимума. Почти в каждом из приводившихся уже ответов на письма читаем одни и те же слова и находим одни и те же аргументы. «Учтите, что особенно важно владение математикой». «Прежде всего Вы должны овладеть как следует техникой теоретической физики. ...Математическая техника есть основа нашей науки». «Начинать надо с математики, которая, как Вы знаете, является основой нашей науки. Содержание указано в программе. Имейте в виду, что под знанием математики мы понимаем не всяческие теоремы, а умение реально на практике интегрировать, решать в квадратурах обыкновенные дифференциальные уравнения и т. д.». «Как Вы поняли сами, теоретику в первую голову необходимо знание математики. При этом нужны не всякие теоремы существования, на которые так щедры математики (Ландау называл это «математической лирикой».— А. Л.), а математическая техника, то есть умение решать конкретные математические задачи».
Ландау прекрасно знал, чего он хотел, ожидал, добивался от своих будущих — или потенциальных — учеников. Современный физик-теоретик попросту не может состояться без свободного владения математическим аппаратом. И если такое не дано, то даже талант, интуиция, способность рождать идеи не сделают его, по критериям Ландау, полноценным ученым: или его идеи придется потом развивать другим, или он сразу же должен скооперироваться с «техничным» физиком.
Сам Ландау считался в этом смысле поистине чемпионом. Как говорят физики, не было в мире теоретика, столь виртуозно владеющего техникой своей профессии: например, если дать всем корифеям какую-нибудь задачу, которая может быть поставлена в пределах существующих в это время теорий, то первым решит ее именно Ландау. Если оставаться в границах возможного, то он в такой мере владел аппаратом, что мог фактически все. Прежде всего потому, что его отличало необыкновенно сильное, над всем доминировавшее физическое мышление, и границ этому мышлению, казалось, просто не было. Именно оно помогало ему каждый раз находить, или угадывать, или изобретать адекватный задаче аппарат.
Смешно, конечно же, думать, что того же самого или близкого к тому ожидал он от юношей, которые впервые приходили к нему на экзамен. Умение и возможности могли накапливаться и совершенствоваться лишь постепенно. Но уже состоявшиеся ученики, особенно наиболее сильные из них, стали виртуозами в технике решения — правда, всем им было далеко до учителя. Да и сдающие теорминимум «кандидаты в ученики» в процессе последовательной сдачи экзаменов овладевали все более сложными методами и узнавали новые области математики, которые не обязаны были знать при первом — хотя он был как раз по математике — экзамене. Это предусматривалось в самой программе: определенные разделы математики проходятся вместе с теми разделами физики, где находят себе применение.
Но независимо от уровня знаний и объема их требование Ландау было неизменным и принципиальным. Математическим аппаратом, математической техникой надо владеть в такой степени, чтобы технические трудности не отвлекали от чисто «идейных» исканий и подходов к проблеме, не требовали большой дополнительной затраты сил, не приковывали к себе главного внимания.
Здесь прямо напрашивается сравнение с балетом. Хотя сам Ландау едва ли был бы доволен такой аналогией. Как можно не то чтобы сравнивать, даже рядом упоминать его любимую теоретическую физику с балетом, который он просто не воспринимал как вид искусства. Однако, думается, большинство людей не должно быть шокировано таким сравнением. Ведь когда истинный талант в классичном, совершенном балете не затрудняется техникой и технические трудности для него словно бы отсутствуют, тогда ничто не мешает ему создавать образ, самораскрываться, находить и выражать идею танца. Как видим, некое сходство тут действительно имеется и ассоциация не случайна.
Естественно, в физике нередко бывает, что решить какую-нибудь сверхсложную задачу удается лишь с помощью адекватной сверхсложной и изощренной математической техники, счастливо найденного или специально созданного именно для данной задачи аппарата. А случается, что задача совсем не дается и все попытки решить ее, найти такой аппарат оканчиваются неудачей. Но к сдающим первый экзамен все это еще отношения не имело. Речь шла о достаточно рядовых и общеизвестных, широко употребляемых методах.
В одном из уже цитированных писем Ландау называет тот минимум знаний и умения, с которым следовало прийти на первый экзамен: «Я бы рекомендовал Вам следующую программу обучения. Прежде всего научиться правильно (и по возможности быстро) дифференцировать, интегрировать, решать обыкновенные дифференциальные уравнения в квадратурах; изучите векторный анализ и тензорную алгебру (то есть умение оперировать с тензорными индексами). Главную роль при этом изучении должен играть не учебник, а задачник — какой, не очень существенно, лишь бы в нем было достаточно много задач».
Ландау мечтал сам написать курс «Математики для физиков», который точно соответствовал бы его требованиям, но не успел...
В то же время он всячески пропагандировал свои взгляды на специфику преподавания математики для студентов-физиков и в отзывах и рецензиях пытался влиять на программы и курсы математических дисциплин в физических вузах и на физических факультетах. «Я считаю,— писал он,— что преподавание математики нуждается в серьезнейшей реформе. Те, кто возьмется за это важное и трудное дело, заслужат искреннюю благодарность как уже готовых физиков, так и в особенности многочисленных будущих поколений».
Если «соискатель», стремящийся попасть в школу Ландау, благополучно прошел через первые испытания, наступала пора готовиться к следующим — теперь уже собственно по теоретической физике.
Последовательность была такой — механика, теория поля, квантовая механика, статистическая физика, механика сплошных сред, макроскопическая электродинамика, релятивистская квантовая теория. Семь экзаменов, а вместе с двумя математиками — девять. Охватывались все главные области и аспекты теоретической физики. И все их надо было знать равно хорошо. «Изучить надо ВСЕ ее (теоретической физики.— А. Л.) основные разделы, причем порядок их изучения дается их взаимной связью,— писал Ландау.— В качестве метода изучения могу только подчеркнуть, что необходимо самому производить все вычисления, а не предоставлять их авторам читаемых Вами книг». Экзамены, как уже говорилось, состояли не в изложении теории, не в выводе формул, а в решении конкретных физических задач.
О трудности экзаменов говорят долгие для большинства сроки овладения теорминимумом, а ведь сдавали его преимущественно сильнейшие молодые теоретики. Но самого Ландау нисколько не смущали, не настораживали долгие сроки, они никак не ухудшали его отношения — лишь бы экзамены были по-настоящему хорошо сданы. Вот что он писал о сроках: «На практике они варьировались от двух с половиной месяцев у Померанчука, который почти все знал раньше, до нескольких лет в других, тоже хороших случаях».
Молва приписывает Померанчуку еще более короткий срок, около месяца — так сильна была вера в исключительные возможности и талант Чука, в то время двадцатидвухлетнего. Еще более молодым, в девятнадцать лет, сдает теоретический минимум Е. М. Лифшиц (он вообще, как и его учитель, был «ранним» — в шестнадцать поступил в институт, через два года его закончил, а еще через год сдал Ландау теорминимум). Быстро, в два захода «расправился» с минимумом и молодой И. М. Халатников. Первый раз приехал из Днепропетровска осенью сорокового года и сдал половину экзаменов, а весной сорок первого, незадолго до войны,— все остальные.
Подобная «скороспелость» случалась и потом. И всегда она производила впечатление. Так преподаватели и старшекурсники Московского физтеха сразу узнали, что Саша Андреев, еще не окончив институт, еще их студент, сдал уже весь теорминимум.
Работа была и трудоемкой, и трудной. И многое предстояло преодолеть. Предмет изучения — вся теоретическая физика — был сложен и, казалось, необъятен. Его надо было по-особому знать, понимать и уметь им пользоваться. Свои знания следовало по-особому излагать, и «круг умения» также был очерчен весьма четко. А еще приходилось в немалой степени преодолевать и себя, чтобы хватило сил на весь долгий и труднейший марафон. Ведь, по существу, все «соискатели» одновременно или где-то работали, или учились.
Да и сами экзамены по теоретической физике не только автоматически оказывались следующими, после математики, ступеньками, но по своим требованиям становились и более высокими ступенями. Действительно, математику предписывалось знать в определенных пределах, но в этих пределах легко и свободно оперировать ею. Теоретическую физику надо было знать всю, причем во взаимосвязи ее частей, как единое целое.
Эти знания и умения выполняли роль как платформы для будущей деятельности, так и порога, переступив который, физик мог считать себя подготовленным к работе теоретика — на уровне требований Ландау.
И одновременно — а может, именно это было особенно важным — он становился признанным, «законным» учеником Ландау, полноправным членом его школы.
Однако такое «поступление в школу» нигде и никак не оформлялось. Единственный письменный след оставался в книжечке Ландау, где он записывал, кто и когда сдавал экзамены. А теперь этот след сохранен на листках, где Ландау по годам, одного за другим, перечислил всех сдавших теорминимум, да еще сбоку приписал, кто кем стал (кандидатом, доктором, членом-корреспондентом) к концу 1961 года (сейчас, естественно, большинство из них продвинулось еще дальше). И все.
Даже бумажку не выдали, отмечают ученики.
Действительно, никакая бумага не удостоверяла, что экзамен состоялся и успешно сдан. И что человеку присвоено звание «ученик Ландау». Да и кому же было выдавать такие бумаги? Какой канцелярии?
Ничего не менялось — во всяком случае, до поры до времени — и в официальном положении физика.
И Ландау тоже, казалось бы, ничего осязаемого не получал от дополнительного этого, большого и постоянного труда. Добавочная его нагрузка нигде и никак не учитывалась.
Все строилось на чистом энтузиазме — с обеих сторон.
Один из весьма ироничных физиков, презирающих высокие слова, тем не менее сказал, что вся огромная работа по созданию теорминимума и приему экзаменов была гражданским подвигом Ландау.
Конечно, Ландау тратил массу времени, потому что сам принимал экзамены у всех, кто хотел сдавать. (Такой, мы знаем, была его исходная установка и многолетняя практика. Долго вся «приемная комиссия» состояла из одного Ландау. Лишь потом, когда желающих попробовать себя стало уж очень много, Ландау начали помогать ближайшие ученики и сотрудники. Однако и в этом случае первый экзамен по-прежнему он принимал сам, чтобы составить себе впечатление о новом человеке.) Но главным многотрудным делом было другое — построить курс теоретической физики, продумать и разработать программы по каждому ее разделу, найти нужную последовательность, выбрать и выделить то, что следовало знать особенно хорошо, а затем все связать воедино так, чтобы выстроилась концепция именно всей теоретической физики; эта работа потребовала особенно много усилий.
Правда, для нее существовали уже фундамент и ориентир — курс «Теоретическая физика». Но так как написание и публикация всех томов «Теоретической физики» длились многие годы • и даже не были целиком закончены при жизни Ландау, то далеко не всем, кто готовился сдавать теорминимум, выпало на долю пользоваться большинством книг курса. И это приходилось учитывать при составлении программ.
Хотя весь трудоемкий процесс и разработки теорминимума и самих экзаменов строился действительно на чистом энтузиазме, но было бы ошибочно думать, что не имелись в виду, не преследовались никакие практические цели. Напротив. Таким путем происходило нечто вроде воспроизводства учеников — Ландау находил наиболее талантливых и близких себе по духу физиков. А для молодого теоретика или того, кто хотел им стать, возникала возможность заниматься самой серьезной наукой.
— Никаких взаимных обязательств ни на кого сдача этих экзаменов не накладывает,— говорил Ландау.— Разве лишь на меня. Если я замечу способного юношу, то я считаю своим долгом помочь ему войти в науку.
Существовал вроде бы негласный договор. Одни из успешно сдавших теорминимум поступали в аспирантуру к Ландау. Другие же просто становились его учениками со всеми вытекающими отсюда следствиями: постоянным общением, активным участием в семинаре, обсуждением работ с Ландау, а иногда — и соавторством с ним.
Ведь для теоретика не обязательно, чтобы его зачисляли в штат. Ему не нужны специальное помещение, лаборатории, приборы, установки. Все орудия труда — книги, журналы, бумага да карандаш.
Кроме того, даже не обязательно было жить в одном городе с Ландау, чтобы успешно заниматься теоретической физикой и быть его учеником. Веру в такую возможность он неизменно поддерживал у всех, в ком чувствовал настоящий интерес к физике. Это присутствует хотя бы в тех же ответах его на многочисленные письма.
«Вы, по-видимому, всерьез интересуетесь физикой, и мне бы очень хотелось помочь Вам... я охотно пришлю Вам соответствующие программы, после изучения которых Вы, как мне кажется, будете достаточно подготовлены для начала»,— пишет Ландау студенту в Пензу.
«Если Вы всерьез интересуетесь теоретической физикой, то я охотно помогу Вам заняться этой, как мне тоже кажется, увлекательной наукой. Посылаю Вам программу «теоретического минимума», которую Вы можете (если хотите) сдавать мне и моим сотрудникам раздел за разделом».
Однажды Ландау получил письмо, в котором были такие строки: «Когда-то Эйнштейн не отказал в помощи студенту Инфельду, и поэтому я решился написать именно Вам в надежде, что Вы не откажете мне в моей маленькой просьбе. Я— очень люблю теоретическую физику. ...Простите, что я Вас беспокою, для меня это очень важно, и хотя, может быть, это не совсем прилично, но ведь в жизни, если идти трудным путем, не всегда бывает место для приличия».
Скорее всего, подобного рода «неприличия» должны были импонировать Ландау. Во всяком случае, он написал: «Охотно отвечаю на Ваше письмо. ...Я охотно помогу Вам. ...Если Вы сдадите мне всю эту программу (на что в зависимости от Ваших знаний и усердия Вам понадобится один-два-три года), то я буду считать, что Вы вполне подготовлены для научной работы, и постараюсь помочь Вам, если Вы захотите, устроиться в этом направлении».
И еще такие ответы. «Если у Вас хватит желания, Вы сможете изучить теоретическую физику самостоятельно — ведь она ничего, кроме книг и бумаги, не требует».
«То, что Вы страстно хотите заниматься физикой, очень хорошо, поскольку страстная любовь к науке есть первый залог успеха. К счастью, теоретическая физика — такая наука, для изучения которой пребывание в университете совсем не обязательно. Я посылаю Вам в этом письме программу... Если Вы успешно справитесь с этой задачей, то я надеюсь, что смогу помочь Вам в Вашем устройстве на работу по теоретической физике и в том случае, если Вы окончите не МГУ, а всего только Тульский педагогический институт»,— пишет Ландау в Тулу.
«Иностранные языки, увы, необходимы. Не забывайте, что для усвоения их, несомненно, не нужно особых способностей, поскольку английским языком неплохо владеют и очень тупые англичане»,— так шуткой подбадривал он молодого рабочего.
И снова трогает, так сказать, исходная, изначальная его доброжелательность. А с каким сочувствием относится он к объяснениям в любви к физике...
Однако в процессе экзамена доброжелательность если и оставалась, то должна была потесниться, освобождая место требовательности.
Здесь действовал как бы естественный отбор: не можешь сдать — уходи, делай что-нибудь иное, вспоминает один из учеников, благополучно прошедший через все испытания. Те, дальнейшая работа которых была бесперспективна для науки и для них самих, беспощадно отсеивались. Дау редко ошибался в ту или другую сторону. Особенно жестоко доставалось от него недостаточно прилежным — здесь он не ошибался никогда.
Но те, кто сумел выдюжить, получали многое. Вероятно, для большинства первым выигрышем было самоуважение — вполне заслуженное — и самоутверждение.
Как в принципе всякий мог прийти на семинар, так и каждый в принципе мог сдавать теорминимум. Не выдвигалось никаких ограничений, никаких требований, кроме одного, быть «на уровне» по знаниям и по способностям. Это всеобщее потенциальное равенство и реальный демократизм делали школу Ландау необычайно привлекательной.
На самом деле отбор был очень строгим, прямо свирепым иногда. Но шел он по одному, можно сказать, триединому признаку: знания, способности, любовь к физике. Все остальные пункты, составляющие, к примеру, содержание анкет, в расчет не принимались.
И именно в этой неформальности, неофициальности, антибюрократичности — и сдачи экзаменов, и «зачисления в школу», да и всей жизни и деятельности школы Ландау — была особая прелесть и притягательная сила. Быть может, как заметил ученик Ландау, одно из главных значений теорминимума — это сам факт его существования. То, что он существовал — именно такой,— уже создавало определенный микроклимат в среде физиков. Все чувствовали особенность и прелесть этих неофициальных, нигде не фиксируемых отношений. К тому же, как это обычно бывает, когда нет связей формальных, то взамен возникает некая иная система взаимоотношений и связей.
Александр Федорович Андреев вспоминает, что на Физтехе достаточно было сказать, что сдал теорминимум, и экзамен там уже не принимали. К чему пустая формальность? Действительно, к чему? Ведь физтеховский экзамен — детские игрушки по сравнению с теорминимумом.
Короче говоря, принадлежность к школе Ландау была отменно высокой маркой, а практически она пролагала самый прямой путь к плодотворной работе в науке.
Главным помощником в достижении цели служили, как известно, книги «Теоретической физики». Все, что училось,— училось по этому курсу, говорит А. Ф. Андреев, кстати, аспирант Ландау последнего периода, когда, по существу, весь курс был уже издан.
Едва ли кому-нибудь даже с исключительной находчивостью популяризатора удастся дать читателю-неспециалисту представление о курсе «Теоретической физики» и об отличии его от других подобных изданий. Единственно, что можно и, наверное, интересно — привести какие-то оценочные высказывания. Представим, что собрались ученики Ландау, и послушаем их.
— Такой курс мог сделать только Ландау. Буквально не сходя с места, не прибегая к литературным источникам, в любую минуту он мог начать работу по привлекшему его внимание вопросу из какой угодно области теоретической физики. Поэтому лишь он и был в состоянии создать энциклопедическое руководство по большей части нашей науки, причем любой пункт изложен так, как будто он впервые открыт авторами, а подход к материалу одновременно и строже и доходчивее, чем в других учебниках.
— Это — концептуальный курс теоретической физики, монография, основы всего и навсегда. Этот курс — фактический памятник Ландау. Его мог сделать только он — и никто другой. В мире не пишется книг ярче этого курса даже в одной какой-нибудь области. Например, вышла целая масса всяческих «Квантовых механик». Но в них нельзя найти подобного тому, что есть у Ландау. А у него еще — вся теоретическая физика.
— Эти книги поразительны по отбору материала — вот их главная отличительная черта. В них то, что зарублено навсегда. Есть книги, которые являются жемчужинами науки. Так, один известный западный теоретик всюду возит с собой «Статистическую физику», не расстается с ней. «Посмотрите у Ландау» — постоянная фраза. Потому что это уникальное издание по отбору самого главного и самого важного.
— Если речь идет об устоявшейся области, то в курсе все есть. Если решения нет в этом курсе, значит, его нет нигде вообще. Все, что нужно, там есть. Поразительность отбора! Тупиковые задачи туда не попадают.
— У книг этого курса есть и другие особенности. Чем больше знаешь книгу, тем больше она дает. Чем квалифицированнее физик, тем она для него глубже и нужнее. Это книги с большим барьером — трудно, а то и невозможно начинать с нуля, чтобы можно было их понимать. Но вот что интересно: ученикам учеников Ландау было уже легче!
— Книги эти написаны для продвинутых людей. Даже очень хороший и известный физик не мог объяснить одного места из курса. Это — книги для взрослых. И выучить их все по-настоящему очень трудно. Однако, имея эти книги, можно выучить теоретическую физику, находясь например, вне Москвы и Ленинграда, без преподавателя, без живого слова. Знать ее так, что можно читать журналы. А сейчас это трудно — читать статьи в научных журналах. В книгах курса дается заведомо больше, чем читается в вузах.
— Еще одна существенная особенность: книги написаны практически без ошибок. К ним надо добавлять новый материал, но ничего в них не приходится менять.
— Надо сказать, что читатель должен знать сам, чего он хочет от книг Ландау. В них нет никаких пояснений, зачем и почему разбирается данный вопрос и какой может быть сделан из него практический вывод. Излагается именно теоретическая физика во всей ее чистоте и строгости. Отступления Ландау называл сюсюканьем.
— Эти книги при абсолютной строгости прагматичны. В конце каждого параграфа всегда даются рецептурные решения — что надо делать.
— Этот курс приобрел всемирную известность и популярность. Ландау совместно с Лифшицем написал знаменитые, сделавшие эпоху учебники по теоретической физике, по которым учатся во всем мире и которые являются настольными книгами работающих в области теорфизики.
В разных странах, на разных континентах, разными шрифтами — то латинским, то славянским, то всевозможными иероглифами — издаются эти книги. Казалось бы, нет физика, который не читает по-английски. Но все равно выходит курс и на языке хинди, и на вьетнамском, японском, китайском. Латинская Америка читает его по-испански, Англия, США и Австралия — по-английски. В Европе — каждый практически на своем языке. Читают и изучают. Ведь недаром так часто звучит эта фраза — как помощь при поисках, при заминках, как аргумент в спорах — «посмотрите у Ландау».
На ум приходит аналогия со знаменитой французской «Энциклопедией». Это совсем не случайная ассоциация (хотя, по правде говоря, она не затрагивает существа предмета). Но для очень многих еще с юности имя «энциклопедисты» преисполнено глубокого значения. За ним стоит не только суммирование всего имеющегося знания, систематика его и щедрое одаривание людей этим богатством. Есть за ним, прежде всего, позиция, свое продуманное и выстраданное отношение к миру, ко всем его составляющим. Поэтому, помимо энциклопедичности знаний, в этих томах, как известно, заключался и большой нравственный заряд. Недаром «Энциклопедия» в некотором смысле стала знаменем и идейным фундаментом французской революции.
Конечно, ничего подобного не может быть связано с теоретической физикой, одной из самых отвлеченных, самых необщественных наук. Однако и в этих книгах есть тоже не только полный свод физических законов и знаний, не только обсуждение и объяснение явлений, но и свое, не единожды обдуманное и пережитое отношение к ним. Поэтому «энциклопедия» Ландау и Лифшица тоже помогала и узнавать, познавать физику, и работать в ней, и, несмотря на всю отвлеченность своего содержания, сыграла также роль блюстителя идейной чистоты физики. Прежде всего — своим высоким уровнем. Но еще и своей собственной чистотой и незыблемостью основных принципиальных позиций.
Работа Ландау и Лифшица продолжалась год за годом, систематически, по заранее составленному плану. А если были какие-то заминки с выходом книг, то никак не по воле авторов — от них это не зависело, свое дело они делали, невзирая ни на что. Потому что двигало ими чувство ответственности за развитие физики в стране и убежденность, что эти книги нужны, даже необходимы, что без них не создать сильной, грамотной, передовой и дееспособной школы теоретиков.
Главная принципиальная особенность этого курса, выделяющая его из других подобных изданий, заключалась в едином подходе к различным областям теоретической физики всюду, где было возможно. Так, например, и всю механику, и электродинамику авторы построили на вариационном принципе. Между прочим, Ландау вообще отличала такая общность подхода к различным проблемам физики. А следствием этого было, к примеру, его удивительное умение, решая какую-нибудь сложную задачу, найти и применить математический аппарат из совершенно другой области физики, казалось бы, с данной никак не связанной, не имеющей к ней отношения.
Кроме того, в книги курса входило, естественно, немало собственных работ, открытий, а также собственных подходов к проблемам, выводов и оценок. Так, в один очень тяжелый для него год Ландау воссоздал для себя теорию ударных волн. Все вычисления он проделал в уме, без карандаша и бумаги. Когда потом, во время войны, писался том «Гидродинамика», эта работа заняла там существенное место — она легла в основу изложения теории ударных волн.
Создание «Теоретической физики» шло двумя параллельными путями. Один — дальнейшее развитие курса: все время писались новые книги; второй — переиздание уже написанных томов. Это тоже требовало большой затраты времени и сил. Потому что не выходило ни одного стереотипного издания. К каждой из книг авторы относились как к новой. Все внимательнейшим образом пересматривалось, переделывалось, дополнялось новым материалом, чтобы вновь выходящая книга становилась более совершенной, и на уровне последних идей, и чтоб в ней отразились шаги вперед в данной области физики.
Потом всей этой работой занялся — и занят посейчас — Е. М. Лифшиц; делает он ее совместно с более молодым учеником Ландау — Львом Петровичем Питаевским.
Интересно снова перелистать пожелтевшие страницы «Программы теоретического минимума для старших научных сотрудников УФТИ». Им хватило времени пожелтеть, этим напечатанным на стеклографе (или на гектографе, или на чем-то еще подобном) листкам, розданным сотрудникам института в 1935 году.
Но теперь интерес к ним особого рода. В конце каждой страницы (она же один из разделов теорфизики, как их еще тогда последовательно выстроил Ландау: механика, статистика, электродинамика, теория квант, теория сплошных сред) приложен список литературы, а к каждому пункту программы — параграфы, которые нужно читать. В списке этом — разные авторы, отечественные и западные, некоторые курсы не переведены на русский язык или переведены частично. И, конечно, полная разностильность. Впрочем, это естественно, потому и разные стили, что разные авторы, а значит, и школы, подходы, интересы, акценты, форма изложения и все остальное должны разниться.
Уже тогда, в те годы Ландау осознал необходимость создать собственный курс теоретической физики. И приступил к этой работе.
«Здесь, в Харькове, появилась идея и началось осуществление программы составления полного Курса теоретической физики и Курса общей физики,— вспоминает Е. М. Лифшиц.— В течение всей жизни Лев Давидович мечтал написать книги на всех уровнях — от школьных учебников до курса теоретической физики для специалистов. Фактически до роковой катастрофы, при жизни Ландау были закончены почти все тома «Теоретической физики» и первые тома «Курса общей физики» и «Физики для всех».
Как писались книги «Теоретической физики»? Как делали и как делили авторы совместную работу?
Такой вопрос возникает непременно, коль скоро речь идет о соавторстве. И почти также непременно вспоминается шутливый ответ Ильфа и Петрова; Ландау и Лифшицу рукописи сторожить не требовалось — все равно с ними никто другой ничего не смог бы сделать. И, верно, по редакциям авторы тоже бегали мало.
Но если говорить серьезно, то следует признаться, что трудно понять, почему Ильф и Петров накрепко засекретили свои «производственные отношения»; разгадка, вероятно, умерла вместе с ними. У Ландау и Лифшица все было открыто с самого начала. Они не делали никакого секрета из того, как протекает их совместная работа.
Начать с того, что Ландау был наделен странной особенностью. Отлично владевший устной речью, он становился прямо-таки мучительно беспомощным, когда приходилось что-либо писать. Одна необходимость изложения в письменной форме даже собственных своих идей уже затрудняла и сковывала его.
Любопытно, что этим же свойством был наделен и Тамм; он тоже с огромными трудностями и внутренним сопротивлением излагал на бумаге свои мысли. У обоих это относилось именно к словесному выражению — формулы, вычисления, «значки» они писали во множестве; Ландау говорил, что физик-теоретик был бы болтуном, если бы не ставил на бумаге много значков. И после каждой ночной работы Тамма оставалась груда листов бумаги, исписанных формулами; но писать на бумаге слова было выше его сил, эту свою антипатию он не без юмора называл «аграфия».
Идиосинкразия Ландау к эпистолярному творчеству была хорошо известна, и все с ней, конечно, мирились. Посему сделанные совместно с ним работы, как правило, писались его соавторами. «Вы, возможно, слышали, что я совершенно не способен к какой-либо писательской деятельности, и все, написанное мной, всегда связано с соавторами»,— сообщил он одному из своих корреспондентов. Более того, даже статьи, содержащие его собственные, без соавторов, работы, еще с середины тридцатых годов и до конца писал для него Е. М. Лифшиц. Он, которому больше всех и дольше всех приходилось сталкиваться с этой особенностью Ландау, объясняет ее следующим образом: «Ему было нелегко написать даже статью с изложением собственной (без соавторов!) научной работы, и все такие статьи в течение многих лет писались для него другими. Непреодолимое стремление к лаконичности и четкости выражений заставляло его так долго подбирать каждую фразу, что в результате труд написания чего угодно — будь то научная статья или личное письмо — становился мучительным».
Другое дело, что работы обычно по многу раз переделывались — Ландау никогда не жалел на это ни времени, ни труда. Здесь ничто его не тормозило. В этом смысле Дау был безынерционен, говорит Лифшиц. Своего соавтора же, бывали случаи, Ландау называл «патриот n-1 варианта» (то есть предпоследнего). А сам часто не останавливался на «n»-ном и готов был делать еще «n+1». Зато он не уставал повторять всем и каждому: «Женя блестяще пишет».
Но это относится больше к технической стороне работы. А вообще-то по-настоящему быть соавторами можно только, когда с доскональностью совместно обсуждаются и замысел, и идеи, и весь текст, когда вместе ищут наилучшие решения и вместе устраняют возникающие сложности. Другими словами, только при большой внутренней близости, при одинаковом способе мышления, одинаковом подходе к проблеме, при совпадающих реакциях.
Все это было. Нет сомнения, союз и дружба Ландау и Лифшица совершенно особенные. Исключительной оказалась и роль Лифшица. Ландау совершенно необходим был такой человек, чтобы он сам мог стать тем, чем стал, говорит Юрий Борисович Румер. И приводит пример с «Теоретической физикой»: «Безусловно, все согласятся с тем, что без Евгения Михайловича такой курс не появился бы. Он привнес в создаваемый курс много новых научных идей, он затратил на него много самоотверженного труда, добиваясь ясности и точности изложения».
Ландау требовался такой сотоварищ, который не только воспринимал и понимал его замыслы, но и мог с ним все обдумывать, и возражать ему, и сомневаться, и не соглашаться, и не уставать в поисках наиболее совершенной формы для выражения сути, и не успокаиваться, пока сама суть не станет ясной... Словом, сотоварищ, который сам умел подняться на весьма высокий уровень. И еще требовалась, употребляя такое нынче популярное выражение, психологическая совместимость. Она существовала. Поэтому очень многое и очень легко делалось сообща.
Например, оба так привыкли вместе и одинаково, думать, что, когда организовался Московский физико-технический институт, они стали читать один и тот же курс лекций. Так как в то время поездки в Долгопрудную получались трудными и долгими, то читали по очереди. Существовала такая полная взаимозаменяемость, что стоило одному сказать, на чем он в прошлый раз остановился, и другой свободно продолжал лекцию.
А еще они любили вместе отдыхать — отправлялись в поездки на машине. В то время отсутствие комфорта их мало смущало, путешественники они были непритязательные. Ландау только не забывал запасаться своими любимыми семечками.
— Ты — «неудобник»,— обычно отвечал он на упреки аккуратиста Лифшица, что все сиденье машины засыпано шелухой. Это означало, что стремление его друга к порядку несколько мешает удобствам.
Е. М. Лифшица отличает верность — причем активная, случается, даже воинственная — всем принципам Ландау. И конечно, ему самому. Эта верность принципам побуждает его каждый раз, готовя ли к новому изданию вышедшие при жизни Ландау тома, или создавая новые книги, в свое время задуманные Ландау, вновь проделывать всю огромную работу. Трудно вообразить, какой это труд, и понимаешь, сколь велика добросовестность Лифшица и какое чувство ответственности им движет и перед читателем, и, может, еще больше перед памятью Ландау.
Ландау был прирожденный учитель и просветитель — что называется, милостью божьей. Все в нем счастливо соединилось: он учить хотел, и любил, и умел; и к тому же был крайне озабочен созданием — на всех уровнях, сверху донизу — системы обучения и подготовки физиков.
Основой всех его весьма широких планов должны были стать курсы и учебники. Помимо «Теоретической физики» есть еще и, так сказать, облегченный вариант — «Краткий курс теоретической физики», вышедший уже после смерти Ландау.
И есть «Курс общей физики», первоначально тоже написанный Ландау с соавторами еще в довоенные времена, а свет увидевший после катастрофы с. ним.
И есть написанная совместно с А. И. Китайгородским «Физика для всех», предназначенная для «самого широкого круга читателей». То есть не был забыт ни один, скажем так, контингент читателей или учащихся — от теоретиков высокой квалификации до школьников и вообще всех, кому интересна наука.
К этому следует прибавить и разветвленную систему устного образования: разные генерации учеников Ландау и учеников его учеников продолжают его традиции в обучении студентов и аспирантов, используют его методику, стараются воспроизвести его стиль.
«Л. Д. Ландау разработал строго продуманную систему научного воспитания. ...Ни одно звено интеллектуального роста ученого, начиная со скамьи в средней школе и до кресла академика, не было оставлено Ландау без внимания»,— сказал его ученик Компанеец.
И хотя вообще-то академиков он не очень стремился учить (скорее уж поучать; такое с ним иногда случалось), но действительно, авторитетом он был для огромной массы физиков, в том числе и для академиков (вспомним разговор Вонсовского с Таммом); кстати, и тогда, когда его самого еще в Академию и не выбрали.
Раз уж зашла об этом речь, то скажем коротко, как было дело. Начать с того, что Ландау, автор многих замечательных работ чуть ли не во всех областях теоретической физики, создатель первоклассной школы, все еще почему-то не был членом Академии наук. Вероятно, многих, но уж точно П. Л. Капицу и другого крупного нашего физика академика В. А. Фока, огорчала и сердила такая несправедливость: «Ландау непременно нужно провести в члены-корреспонденты, и я надеюсь, что это удастся»,— пишет Капице Владимир Александрович Фок. И в начале 1941 года они совместно составляют характеристику Ландау для предоставления ее в Отделение физико-математических наук Академии. Вот несколько абзацев из этой характеристики:
«Доктор физико-математических наук Лев Давидович Ландау является одним из наиболее крупных физиков-теоретиков. Его работы заслужили всеобщее признание в нашей стране и за ее пределами. Теоретические исследования Л. Д. Ландау захватывают очень широкую область современной физики — ядерной физики, физики низких температур, физики твердого тела. Во всех этих областях он выдвинул целый ряд оригинальных идей. Отличительной чертой работ Л. Д. Ландау является их тесная связь с экспериментом; все они касаются самых актуальных и острых проблем современной физики. Характерной чертой Л. Д. Ландау является большая строгость мышления, которая часто сдерживает размах его фантазии. Л. Д. Ландау прекрасно владеет математическим аппаратом современной физики.
Л. Д. Ландау создал вокруг себя школу молодых советских физиков, воспитанию которых уделяет очень много времени. Им подготовлен ряд молодых ученых, которые теперь имеют уже степень доктора и занимают профессуру. Л. Д. Ландау ведет также семинар в университете».
Между прочим, в этой характеристике и прямо сказано о роли и авторитете Ландау: «Нужно отметить, что с ним консультирует свои работы большинство наших ученых — редко можно встретить работу по теоретической физике, выходящую у нас в Союзе и не имеющую выражения благодарности Л. Д. Ландау».
...Но началась война, эвакуация; Академия наук, как и вся страна, перестраивала свою жизнь, работу, интересы.
Лев Давидович Ландау стал академиком в 1946 году, теперь, естественно, минуя «член-коррскую» степень,— не такой это был случай, не такая фигура и не такой масштаб, чтобы подниматься постепенно по всем ступенькам.
Что касается его учеников, то академиками из них стали трое — И. Я. Померанчук, Р. 3. Сагдеев и Е. М. Лифшиц (мы исходим из такого «формального признака», как сдача теорминимума, потому что есть еще и другие физики, в том числе академики, например: А. Б. Мигдал, И. М. Лифшиц, В. Л. Гинзбург, которые причисляют себя к ученикам Ландау, хотя экзаменов ему и не сдавали), а членов-корреспондентов среди них достаточно много. Значительно больше, чем к началу 1962 года, когда Ландау написал эти сохранившиеся и по сегодня листки. ...Тщательно вывел имена, годы, будто что-то толкнуло его подвести итоги.
Но вообще-то его деятельность никак не походила на подытоживание чего бы то ни было. Скорее наоборот. Все в ней было в активном движении вперед. Во всем присутствовала молодость со всеми своими атрибутами: энергией, напором, стремительностью, высокой результативностью, убежденностью в своей правоте и непримиримостью к тому, что он считал профанацией науки. А молодость, как известно, не совпадает, да и не может, не должна совпадать с подведением итогов. Уж скорее следует сказать, что эти состояния взаимно перпендикулярны, или, как привычнее говорить физикам и математикам, ортогональны друг другу.
Молодость была у Ландау в характере, в натуре, в поведении, но больше всего она сосредоточилась в его школе — и в возрастном составе, и в самом духе ее. Похоже, что довольно точное и развернутое, чуть издалека, объяснение ситуации дал М. И. Каганов:
«Демократичность — понятие не простое. Уровень демократичности определяется и стилем отношений внутри уже существующего коллектива, и легкостью присоединения к коллективу. Демократичность в окружении Ландау была очень откровенная; мне не хочется употреблять слово «нарочитая», так как простота отношений была естественна, никому не демонстрировалась. Многие говорили друг другу «ты», многие говорили «ты» Ландау, никого не удивляли споры (иногда в резкой форме) между учеными совершенно разного возраста и положения.
Я убежден, что многих именно эта демократичность, простота отношений в школе Ландау отпугивала. Окружавшие Дау казались компанией близких друзей (многие действительно дружили). А в такую компанию трудно войти взрослому человеку. Поэтому школа Ландау (в те годы, когда я знал его) росла за счет молодежи: появлялись новые ученики Ландау и ученики его учеников. Молодые люди, как правило, легче преодолевали барьер психологической несовместимости».
Итак, дано объяснение, почему молодежь легче приживалась в школе. А с другой стороны, Ландау, как и каждому учителю, тем проще было формировать личность ученика, чем раньше тот попадал в сферу его влияния, чем меньше других, чужих, чуждых воздействий он успел испытать. А уже в самой школе шла, естественно, коллективная и взаимная шлифовка и доводка — такое тоже куда легче и безболезненнее совершается в молодые годы.
Так что же, школа Ландау была кастой или не кастой?
В какой-то мере, конечно, кастой. Определенная кастовая замкнутость там присутствовала. Замкнутость, но не ограниченность. К кому же и замкнутость весьма условная. Один из учеников подчеркивал, что сектантства в школе Ландау и на его семинаре не было, а был сложившийся коллектив участников. Не организованный, никак организационно не оформленный, просто коллектив единомышленников.
Можно было трудиться в разных институтах, жить в разных городах и всего несколько раз в год приезжать в Москву и общаться с Ландау. И все же быть его подлинными учениками. В этом смысле у Ландау было, как у Бора. Правда, ученики Бора приезжали не из разных городов, а из разных стран, а также и с других континентов.
Вообще, когда речь заходит о школе Ландау, то у многих возникает потребность провести какие-то параллели со школой Бора. Но поскольку Бор есть Бор, то, по совести говоря, в оценках и сопоставлениях хочется спрятаться за спины физиков, и в первую очередь тех, кто хорошо знал и Бора, и Ландау.
«Большой талант Бора как учителя, его обаяние как человека и ученого покорили Ландау. Бор сразу же разгадал в Ландау не только талантливого ученого, но, несмотря на некоторую резкость и экстравагантность его поведения, и человека больших душевных качеств. Ландау считал Бора своим единственным учителем в теоретической физике. Я думаю, что у Бора Ландау научился и тому, как следует учить и воспитывать молодежь. Пример Бора, несомненно, способствовал успеху крупной школы теоретической физики, которую впоследствии Ландау создал в Советском Союзе»,— говорил П. Л. Капица.
«Выдающийся физик, он был в то же время и поистине выдающимся учителем, учителем по призванию. В этом отношении, может быть, позволительно сравнить Льва Давидовича лишь с его собственным учителем — Нильсом Бором». Это слова Е. М. Лифшица.
«Общение с Бором и его знаменитой копенгагенской школой навсегда определило научные установки Ландау, научило его отличать подлинно прогрессивное от высококвалифицированных иногда ухищрений. Эту научную традицию Ландау насаждал в Советском Союзе среди своих учеников, они в дальнейшем — среди своих, и так до третьего или четвертого колена. Все мы гордимся тем, что наши ученики — внуки Ландау и правнуки Бора»,— так сказал А. С. Компанеец.
От Бора унаследовал Ландау и демократичность, нелюбовь к чинопочитанию, но зато любовь к коллективной работе, совместному с учениками думанию, поискам. И конечно, особое отношение, особую любовь к физике.
Но, естественно, у Ландау не было все точно, «как у Бора». И не могло быть. Подобные личности и все их деяния, так сказать, производные от них, существуют в одном экземпляре.
У Бора в каждый отрезок времени все занимались преимущественно одной и той же общей проблемой, конечно же, наиболее важной для данного периода. У Ландау — самыми разными задачами одновременно.
Другая особенность проистекала, как сказал один из учеников, от «поразительного феномена»: Ландау мог взаимодействовать — и взаимодействовал — с экспериментаторами; для всех своих учеников он заменял собой эксперимент — стоял на входе и на выходе каждой теоретической работы. Можно не говорить, как такое умение необходимо, хотя встречается не столь уж часто.
О различиях между теоретиками и экспериментаторами, о разных формах и методах их работы и о их взаимодействии написано достаточно много. Нам особенно интересно, что думал по этому поводу сам Ландау:
— Теоретики и экспериментаторы,— говорил он,— разные люди. Исключение — Ферми. Нормальный человек не может совместить в себе и то и другое. Теоретики и экспериментаторы понимают друг друга по какой-то линии соприкосновения. Мы рассказываем экспериментаторам популярно конечные результаты теории — между собой мы на таком детском языке не говорим. Экспериментаторы докладывают нам тоже о результатах. К приборам теоретика они не подпускают. Но вся жизнь проходит в непрерывном контакте. Совместная деятельность необходима. В других науках такого разделения быть не может.
Из чего проистекает это разделение, Ландау объяснял так:
— Рассуждают экспериментаторы так же, как и теоретики. Но для теоретиков дело — это формулы. Теоретик мыслит математически, и первоначальные идеи возникают у него тоже в математическом образе. Мы работаем математической техникой, которая развилась до того, что превратилась в самостоятельную профессию.— Вспомним, как Ландау говорил, что физик-теоретик был бы болтуном, если бы не ставил на бумаге много значков.
Если схематично и грубо представить себе процесс исследования, то он будет несколько напоминать эстафету, где теоретики и экспериментаторы передают друг другу эстафетную палочку.
Так вот, слова ученика Ландау надо понимать в том смысле, что Лев Давидович был всегда в этом процессе промежуточным звеном, он передавал палочку от теоретиков экспериментаторам, и обратно. Причем передавал не механически, конечно, а, так сказать, идейно, предваряя каждый этап исследований своими мыслями, догадками и соображениями. Отсюда же, из этой особенности Ландау, вырос и его постоянный интерес к экспериментальным работам.
— Науку теоретики и экспериментаторы делают совместно и обойтись друг без друга не могут,— говорил Ландау.— Контакт — в разговорах, устных и печатных. Разговоры о науке вообще составляют существенную часть научной работы.
Таково было содержание «школьной жизни». Что же касается формы, то, к примеру, методику обучения и воспитания неспроста называли «щенячьей». Бросят в воду: поплывет — хорошо, утонет — не жалко. Правда, для тех, кто выплывал, Ландау никогда не жалел времени. Он готов был сколько угодно обсуждать с ними их работы, если встречал там здравую идею,— так говорят его ученики.
В стиль и принципы Ландау «щенячий метод» вполне вписывается. Но трудно представить, чтобы сторонником его был бесконечно мягкий Бор. И в заключение еще на тему «что не совпадало» приведем историю из сборника «Физики продолжают шутить» — уж очень она сюда просится.
«Когда Нильс Бор выступал в Физическом институте Академии наук СССР, то на вопрос о том, как удалось ему создать первоклассную школу физиков, он ответил: «По-видимому, потому, что я никогда не стеснялся признаваться своим ученикам, что я дурак...»
Переводивший речь Нильса Бора Е. М. Лифшиц донес эту фразу до аудитории в таком виде: «По-видимому, потому, что я никогда не стеснялся заявить своим ученикам, что они дураки...»
Эта фраза вызвала оживление в аудитории, тогда Е. М. Лифшиц, переспросив Бора, поправился и извинился за случайную оговорку. Однако сидевший в зале П. Л. Капица глубокомысленно заметил, что это не случайная оговорка. Она фактически выражает принципиальное различие между школами Бора и Ландау, к которой принадлежит и Е. М. Лифшиц».
Но не следует думать, что так «не стесняться» было привилегией, прерогативой, даже монополией одного Ландау. Ничего подобного. Каждый из учеников мог себе это позволить. И никто, включая и главу школы, не был застрахован от подобной оценки (вспомним снова реплику Померанчука: «Мэтр, ты говоришь ересь!»).
Вообще надо сказать, что ученики Ландау многое взяли от своего учителя и в умении и в поведении. Пускай поведение, случалось, выглядело странновато — то экстравагантным, то чересчур резким, и далеко не все его понимали и принимали, а многие и безоговорочно осуждали, но не было в нем нарочитого желания обидеть или эпатировать. А была естественная реакция (которую, совсем не в похвалу будь сказано, они просто не желали контролировать). Реакция в защиту правильной, настоящей, серьезной и глубокой физики.
Что же касается «умений» или особенностей мышления и работы, то, вероятно, несколько из них следует считать основополагающими.
Во-первых, концептуальное восприятие теоретической физики. Это значит, что к ней относились как к единой науке, как к гармонично построенному зданию, как к цельной конструкции, элементы которой взаимосвязаны. Недаром Ландау считал, что каким бы талантливым ни был физик, но если он не знает теоретическую физику во всем ее объеме и единстве, такое уже невосполнимо, и пробелы будут мешать всю жизнь.
Во-вторых, высокий класс, если так можно выразиться, формального мышления. А также обостренные критические способности.
И в-третьих, отточенный профессионализм. Он был главным критерием в оценке деятельности. Профессионализм и в подходе к решению любой физической задачи, и в самом умении ее решить, то есть и в творческой, и в исполнительской частях работы.
Потеря учителя сильно сказалась на школе. Ведь Ландау был центром, вокруг которого создалось широкое силовое поле активно и квалифицированно работающих ученых. И точно так же он был чем-то вроде мощного заряда и создал другого типа силовое поле — поле напряженной мысли и напряженного творчества, которое и становилось источником выдающихся работ.
А еще он был гарантией надежности, добротности. Без него, вероятно, пропала былая уверенность в надежном тыле. А значит, и смелость, и уверенность в себе. (Не исключено, что на самом деле процесс этот был более тонким, не всегда даже осознанным, и такое словесное его выражение несколько огрубляет и упрощает суть.)
А еще был он постоянным генератором идей. Легко, не скупясь, подбрасывал их и собственным ученикам, и другим общавшимся с ним физикам. (Правда, сердился, когда те забывали, откуда взялась идея.) С его уходом школа и этого тоже лишилась навсегда.
(Конечно, такие вещи совершенно несопоставимы, но по ассоциации, или просто потому, что к слову пришлось, или для некоторой душевной разрядки, но хочется сказать, что так же легко, Ландау давал и одалживал деньги. Например, когда в институте создали кассу взаимопомощи, Ландау внес всю первоначальную сумму. И охотно ссужал деньгами тех, кто его об этом просил. Но и тут не любил ни забывчивости, ни самодеятельности. Считал, что его дело решать, кому дать в долг, а кому — насовсем, без отдачи.)
Кое-какие черты Ландау несомненно передались и его ученикам, были ими «унаследованы», Быстрая речь и быстрое думание. Уверенность в себе и определенность, даже некоторая категоричность в суждениях и оценках чего бы то ни было: людей, событий, научных работ... А может, так получилось потому, что ученики, как и друзья, чаще всего подбираются, исходя из совместимости. Конечно, не сознательно, не заданно, но тем не менее «естественный отбор» все-таки происходит.
А может, эти свойства были им присущи изначально, пришли из детства, из молодости и остались, утвердились на всю жизнь. Ведь большая часть учеников еще совсем мальчиками начинала работать с Ландау. И они сразу заявили о себе яркой одаренностью, как и их учитель, в той или иной степени несли в себе приметы вундеркиндов (хотя Ландау не терпел, если «вундеркиндство» заменяло серьезную повседневную работу), а такое редко сочетается с неуверенностью.
Многие из качеств Ландау хотя и могли вызывать сопротивление у посторонних, но весьма импонировали близким, особенно ученикам, которые их воспринимали как «гарнир» к главному, чем был значителен Ландау и как ученый, и как человек.
Да и если разобраться и подойти непредвзято, то эта самая непримиримость Ландау проистекала вовсе не от снобизма, не от каких-то скверностей характера, просто он внутренне не мог осознать, что мышление, подход, оценки, вкусы, реакции, то есть и психика и психология, далеко не обязательно однозначны и одинаковы у всех. Недаром он любил, смеясь, повторять:
— Мой вкус, по определению, лучший в мире.— Вроде бы шутка. Но не каждому придет на ум так шутить.
Пожалуй, это тоже особенность молодости — думать, что понятное тебе обязаны понимать и другие; то, что нравится тебе — хорошо, а что не нравится — то плохо. Чаще всего лишь в зрелом возрасте начинаешь догадываться что к чему и не выдавать собственные мнения, вкусы и прочее за абсолют.
Правда, не надо выдавать за абсолют и это свойство Ландау, особенно когда дело не касалось физики. Так, на вопрос одного кинодеятеля, понравился ли ему фильм, Ландау ответил:
— Нет, не понравился. Но это ничего. Не надо только делать фильмы, которые никому не нравятся.
Вероятно, зайди речь о работе по физике, текст был бы существенно иным. Вообще, физика всегда оставалась самым святым и важным делом для Ландау и его школы. Тут не принимали никаких оправданий и скидок, все исчислялось по самому большому счету. И способность отдавать себя работе, и результаты ее, и качество.
Ландау были присущи две черты. Одну называют по-разному: пуризм или ригоризм, в действительности, по существу, это было какое-то сверхцеломудренное отношение к науке, когда не позволяешь никаких вольностей, домыслов, все предельно строго, чисто, доказательно. Вторая черта — своеобразный демократизм. На этот раз не по отношению к людям, а в отношении к самой физике. Любая задача, из любой области, любой степени важности достойна того, чтобы ею заниматься. Условие лишь одно — работа должна быть современна и сделана на высоком уровне.
Нет однозначного и общего мнения, хороши ли эти качества для физика-теоретика (а уж что они не обязательны, видно на множестве примеров). Некоторые считают, что ригоризм, обращенный не только на других, но в первую очередь на самого себя, приводил к тому, что Ландау порой мог оттолкнуть чересчур смелую и, как ему показалось, бездоказательную, «патологическую» идею; или не оттолкнуть, а просто не задержать на ней внимания, хотя она и приходила ему в голову.
Вот что, к примеру, говорил об этом В. Л. Гинзбург: «Высокая критичность Ландау, зачисление им в разряд «патологии» многих идей или точнее, намеков на идеи идут в значительной мере именно от трезвости, ясности. Это, конечно, не всегда хорошо, но это нужно не осуждать, а понимать. Ландау случалось не раз ошибаться в оценках тех или иных идей, результатов и предложений. Но я думаю, что ошибался он даже реже, чем кто-либо другой (если, конечно, говорить о процентном отношении, так сказать, отношении числа промахов к числу попаданий). Поучительно другое: ошибки Ландау, как правило, интересны и имеют воспитательную ценность».
В связи с этим хочется отметить и «направление» ошибок, если можно так выразиться. У Ландау оно «отрицательное»: отверг, не заметил или не пожелал заметить, зачислил в разряд «патологии», «бреда»,— правда, если говорить о вещах серьезных, такие случаи были единичными. Все эти ошибки и, «просмотры» — от ригоризма, от излишней трезвости, требовательности, от чрезмерной «научной щепетильности». А бывает и другое, «положительное» направление ошибок: фейерверк всяких, в том числе и неверных, идей, теорий, новые «эффекты» — там, где их нет; то есть ошибки от чрезмерного полета фантазии. Естественно, слова «положительное или отрицательное направление» здесь никак не означают соответственно хорошее или плохое; они означают лишь отношение к новой идее: «положительные» встречают любую идею словом «да», Ландау же, бывало, произносил свое жесткое «нет».
Что касается равно серьезного отношения к любой физической задаче, полного и принципиального отсутствия, если можно так выразиться, научного снобизма, то представляется, что это была не просто позиция, не просто образ мыслей и действия, а скорее органично присущее ему свойство. При оценках критерий был строгий, но «величественность» из него исключалась начисто. Важно только, чтобы работа была сделана добросовестно, хорошо, чтобы она содержала в себе результат одновременно новый и достоверный. Соответственно и собственное его честолюбие было только в том, чтобы сделать хорошую работу и заслужить уважение тех, кого он сам уважает, А вот, скажем, «радости от чинов» — не было.
Он презирал тех, кто намеревался решать одни лишь «великие, мировые проблемы». И в то же время, как вспоминают его ученики, когда ему рассказывалась какая-нибудь интересная работа, он способен был с такой углубленностью вдумываться в нее, будто решал именно мировую проблему. Но все-таки, правильно или не правильно, что занимался он задачами и большими и малыми? Не приводило ли это к распылению его творческих сил? Так, один из самых одаренных и близких учеников его, И, Я. Померанчук, пурист еще больший, чем Ландау, и не только в том, как работать, но и в том, чём заниматься, боролся с этой, как ему представлялось, «всеядностью» своего учителя. Сам он достаточно жестко каждый раз ограничивал себя определенной областью физики — той, которую считал «горячей точкой», самым принципиально важным в данный момент объектом исследования.
— Последнее время я занимаюсь элементарными частицами. Заглянешь в журналы, столько там интересного, но я уже не могу всем...— сказал он однажды с сожалением.
Померанчук пытался надеть подобные же шоры и на своего учителя. К Ландау Померанчук относился крайне трогательно, но и по-своему строго. Он сердился, когда Ландау работал, по его мнению, не на «генеральных направлениях». Но, с другой стороны, с каким восторгом и экспансивностью мог он повторять, переходя от одного участника семинара к другому:
— Мэтр сделал свою лучшую работу.
Это была работа о сохранении комбинированной четности. Лежала она действительно на главном направлении физики тех лет и представляла собой значительный шаг в решении проблемы симметрии нашего мира.
Однако сам Ландау, как мы знаем, считал своей лучшей работой теорию сверхтекучести. Кстати, в эту новую, возникшую трудами Ландау науку, ее можно назвать квантовой макрофизикой конденсированного состояния, большой вклад внес И. Я. Померанчук. Он нашел ее чрезвычайно важные и широкие продолжения. Слова «идеи Померанчука», «метод Померанчука» стали расхожими в этой области физики. К слову сказать, своими собственными работами фанатичный пурист Померанчук словно бы удостоверил, что это направление физики — одно из главных.
Поначалу Померанчук был типичным вундеркиндом, но, к чести своей, не только не перестал работать, положившись на дар природы и судьбы, а, наоборот, самозабвенно трудился до последнего часа жизни. Он был одним из талантливейших наших физиков и сделал в науке очень многое. Как говорят ученики Ландау он, наиболее одаренный из всех. Ландау ценил его высоко и любил.
А. Б. Мигдал пишет, что самым важным побуждающим мотивом работы исследователя должно быть «любопытство, желание узнать, как устроена природа. В этом случае чужой успех в науке радует не меньше, чем свой собственный. Именно такое отношение к науке было у нашего замечательного физика-теоретика И. Я. Померанчука, который даже перед смертью, приходя в сознание, расспрашивал о последних работах по теории элементарных частиц и радовался каждой новой идее».
Состояние перед смертью, когда понимаешь, что конец уже близок,— это чаще всего полная отрешенность от того, что остается на земле. Как надо было любить физику и поистине жить ею, чтобы последние минуты сознания были отданы ей.
Но тех, кто близко знал Померанчука, такое и не очень удивляло. Они говорят, что Померанчук был фанатиком науки. Что он человек одной чистой ноты. Что он очень много работал и четко видел задачи, которые можно решить.
Единодушие в оценках, конечно, не случайно. Потому что действительно большой фигурой в науке был академик Исаак Яковлевич Померанчук. Или же — как звали его в «школе Ландау» — просто Чук.
Правда, так его называли почти исключительно за глаза. В отличие, скажем, от его учителя, которого очень многие физики, да и не только физики, звали просто — Дау. Это имя, мы знаем, нравилось ему самому, и он с удовольствием объяснял, что если его фамилию прочитать по-французски, то получится Landau—L'ane Dau, то есть «осел Дау».
Однажды ему рассказали, что у Брема написано, будто Дау называют и особую породу диких лошадей — лошадь Бурчеля. Ландау очень понравилось «родство» и с этой породой копытных, а особенно, что лошадка не любит неволи и что слухи о том, что в неволе она производит ублюдков, неправильны.
Раз уж зашел об этом разговор, приведем еще несколько подобных шуток и реплик Ландау. Он любил всяческие «зооаналогии». Милое животное осел отнюдь не было монополизировано им только лично для себя.
— Да, в животном царстве так поступают,— нередко говорил Дау. Что означало: «Ну и осел же ты...»
Еще одна его любимая фраза:
— Если вы не будете работать, у вас вырастет хвост.— Это уже по Энгельсу — лодырям предсказывалась обратная эволюция, превращение в обезьяну.
Вообще, надо сказать, Ландау активно не терпел лодырей, был твердо убежден, что работать надо много, особенно молодым. Заходит, положим, разговор о времени, отданном работе, о количестве затраченных часов, и Ландау «вычитает» какую-то часть времени, когда человек сидел и только смотрел в окно,— он говорил, что это время не считается.
В своих отношениях с физикой Ландау был безупречен от первого и до последнего часа творческой жизни. И как бы он ни вел себя, каким бы ни казался окружающим, всегда надо помнить — и прежде всего! — об этом его отношении к физике, потому что именно оно было подоплекой многих его поступков.
Конечно, как у всякого человека, у него бывали ошибки в оценках. Об этом нельзя не сказать и ради правды вообще, и ради большей достоверности его портрета. Как правило, ошибался он в одну сторону. Уже говорилось, к примеру, как одно неудачное выступление на семинаре или не очень хорошо, неубедительно рассказанная работа (хотя, может быть, и хорошая сама по. себе) сразу вызывали у Ландау отрицательные реакции, он тут же утверждался в своем негативном мнении, и обычно его не менял. (Хотя и такое абсолютизировать нельзя — исключения все-таки бывали.)
Однако это был не единственный путь «заслужить» отрицательную характеристику у Ландау. Равно как вся физика близко касалась и глубоко интересовала его, как он всегда и всюду боролся за ее качество и чистоту, как стремился учить стоящих и внизу и сверху на «лестнице знаний», так и оценки его, и сарказм, и выпады тоже били по разным уровням: доставалось и «большим», и «маленьким», и случайным любителям, и вроде бы профессионалам, претендующим на ученые звания и степени, а также и признанным — иногда вполне заслуженно, а иногда и не очень,— маститым, именитым физикам. Недаром в упомянутой уже характеристике Ландау, написанной Капицей и Фоком, есть и такие слова: «Ландау часто выступает на научных заседаниях и с чрезвычайной прямотой критикует обсуждаемые работы. Неумение считаться при этом с индивидуальностью и самолюбием критикуемого нередко вызывает недовольство».
Вот несколько случаев из его богатой в этом смысле биографии.
— Такого идиота я еще не встречал! Выдающийся идиот! — возбужденно кричит Ландау, сбегая с важного Приема, устроенного в честь действительно выдающегося, но... ученого. Человек этот был, как рассказывают, несколько больше, чем допустимо, самоуверен и самовлюблен и, вероятно, не преминул показать это. Отсюда — и реакция Ландау.
И еще кое-кого из западных физиков он явно недооценил. «Мы-то знаем, что может N.»,— скептически заметил он однажды. А N. вскоре показал, что может он очень многое. Просто он был физиком иного стиля, чем Ландау, и главное — не столь техничен, то есть не столь силен в технике, во владении математическим аппаратом.
А вот, как отвечал Ландау молодым, начинающим, но с явным избытком самомнения:
«Вы спрашиваете, чем заниматься в смысле того, какие разделы теоретической физики наиболее важны, Должен сказать, что я считаю такую постановку вопроса нелепой. Надо обладать довольно анекдотической нескромностью для того, чтобы считать достойными для себя только «самые важные» вопросы науки. По-моему, всякий физик должен заниматься тем, что его больше всего интересует, а не исходить в своей научной работе из соображений тщеславия».
«Он был глубоко демократичен в научной жизни (как, впрочем, и в жизни вообще; ему всегда были полностью чужды напыщенность и чинопочитание),— писал Е. М. Лифшиц.— За советом и критикой — которые были всегда четки и ясны,— к нему мог обратиться каждый, вне зависимости от своих научных заслуг и званий, при одном лишь условии: речь должна идти о настоящем деле, а не о том, чего он больше всего не любил в науке,— пустом умствовании, бессодержательном и безрезультатном, прикрытом лишь наукообразными сложностями. Его ум был остро критичен; это свойство вместе с глубоко физическим подходом к вопросам делало дискуссии с ним столь привлекательными и полезными.
В дискуссиях он бывал горяч и резок, но не груб, остроумен и ироничен; но не едок. Надпись, повешенная им на дверях своего кабинета в УФТИ, гласила:
Л. Ландау. Осторожно — кусается!
С годами его характер и манеры становились несколько мягче, но его энтузиазм к науке, бескомпромиссная научная принципиальность оставались неизменными. И во всяком случае, за его внешней резкостью всегда скрывалась научная беспристрастность, большое человеческое сердце и человеческая доброта. Насколько резкой и беспощадной была его критика, настолько же искренне было его желание содействовать своим советом чужому успеху и столь же горячо было его одобрение.
Эти черты научной личности и таланты Льва Давидовича фактически привели его к положению верховного научного судьи для его учеников и коллег». («Дау сказал...» — вот постоянно звучавшие слова.)
«Я его любил. Мы часто разговаривали, ему было со мной интересно. Но о физике я с ним не говорил никогда» — так сказал один физик, но не из числа учеников Ландау. Между прочим, очень хороший физик, которого называют своим учителем некоторые крупные, известные и титулованные ученые. И сам он не без титула. Но: «Я не рисковал говорить с ним о физике».
А вот другой текст — уже ученика, правда, сначала «заочного».
«Я его любил еще до знакомства с ним. Любовь к нему была традиционной в школе Ландау».
Иногда любят «просто так», даже «вопреки». Но едва ли подобное может быть, если любовь стала традицией. Любовь, которой ведь не прикажешь.
За что же любили Ландау его ученики?
За обаяние его таланта? Бесспорно.
И за чисто человеческое обаяние, непосредственность, честность, ум, за его «особость»? Конечно, все это присутствовало.
И за его отношение к физике, за ту, созданную им атмосферу, говоря высоким слогом, поклонения и служения физике, которая была в то же время атмосферой мысли, дела, непринужденности, острословия и презрения к высокопарности, к высоким словам, атмосферой, где трудно работалось и легко дышалось; да, все это не могло не вызывать любви и признания.
Но была, пожалуй, и еще одна причина. Принадлежность к школе Ландау отнюдь не сулила легкой жизни. Наоборот. Она требовала большого и постоянного труда. Однако это было условие необходимое, но недостаточное, далеко не достаточное. Чтобы стать учеником Ландау, требовалось еще и дарование. В его школе надо было очень многое уметь и суметь сделать. И за это трудное счастье, за то, что каждый из учеников сумел — сумел сделать хорошую работу, сумел в чем-то и как-то преодолеть сложности, помехи, внутренние и внешние, сумел оказаться «на уровне», «своим» в большой физике, сумел доказать, что он чего-то стоит и что он достоин принадлежать к этой школе, к этой, в общем-то, корпорации избранных (но избранных не по внешним, формальным, анкетным параграфам) — за это любили они Ландау. И именно это связало, сцементировало три слова: любовь, традиция, школа. Принадлежность к школе Ландау помогала обрести самоуважение, помогала в самоутверждении — а в этом так нуждаются люди вообще, а ученые, вероятно, в особенности.
Его «внефизические» друзья и знакомые, то есть те, отношения с которыми складывались вне работы, вне науки, не были в состоянии оценить его полностью, до конца, и поэтому не могли получать всю ту радость от общения с ним, которую получали физики, и прежде всего его ученики.
Аналогию обычно можно придумать. А бывает, она появляется сама. И чем она неотступнее, чем упорнее завладевает, тем больше ей веришь.
...Квартет имени Бетховена исполнял Пятнадцатый квартет Шостаковича — одно из последних сочинений, написанных незадолго до смерти. Перед началом Д. Цыганов тихим, дрожащим голосом сказал несколько слов о Шостаковиче, попросил почтить его память. А потом долго не мог успокоиться, лез за платком, вытирал слезы, сморкался.
Квартет был на самом деле потрясающий — какой-то дьявольской, сатанинской силы и беспредельной непереносимой скорби. Все части его — адажио, все исполняются без перерыва, такая бесконечная мелодия трагического прощания, расставания с миром, ухода навсегда.
Зал был напряжен до предела. Одна женщина не выдержала, резко поднялась и почти бегом направилась к выходу. А Цыганов то весь уходил в исполнение, то в свои паузы опять вздыхал и вытирал глаза — это было хорошо видно из близкого ряда.
И вдруг так отчетливо многое представилось и прояснилось. Конечно, была и просто большая, личная дружба между Шостаковичем я Цыгановым. А смерть друга — всегда огромная утрата. Но было еще и другое.
Кто такой Шостакович? Гениальный композитор, скажет каждый. Современника редко награждают этим титулом — гений. Иногда требуется немалая временная дистанция, чтобы сполна оценить творчество ученого или художника. А иногда просто трудно привыкнуть к мысли, что так можно, даже следует назвать вот этого человека, который живет и трудится рядом, и ты его довольно-таки близко, хорошо знаешь и видишь его слабости, промахи, недостатки. А кроме того, если обозреть всю многовековую историю человечества, становится очевидным, что «концентрация гениев» куда как невелика. И вдруг один, два, три из них оказываются подле тебя, в те же годы, в том же городе... Такое не укладывается в наше нормальное бытие. Потому что для всех естественно и привычно соседство этого слова с глаголами прошедшего времени.
А тут истинный гений вчера еще был рядом, жил, создавал свои поразительные произведения. И ушел только что. И теперь неразрывны боль личной утраты друга и осознание огромной потери для всех.., И этот исполняемый сейчас квартет — как последняя память, как завещание, как реквием.
Вот Цыганов впервые знакомится с Пятнадцатым квартетом. Может, читает ноты, партитуру. А может, Шостакович сначала проиграл свой квартет на рояле. А потом репетировал вместе с музыкантами. Как бы ни происходило, они присутствовали при рождении поистине великого творения искусства. И приобщались к нему все полнее; вникали, вживались в него — все глубже; чувствовали его все тоньше, все интимнее. «Обыкновенный» гений находился среди них и работал вместе с ними, и вовлекал, втягивал их в свое творчество, превращал в соавторов своих, в соучастников. Так это было.
А теперь представим себе, к примеру, теоретический семинар Ландау — мы ведь постарались чуть-чуть приоткрыть дверь в ту аудиторию (хотя, как известно, вход туда был свободный). И так же, как квартет или оркестранты симфонического ансамбля впервые слушали новые произведения Шостаковича в исполнении их автора, среди них находящегося, и не только слушали, а и присутствовали при их доводке, шлифовке, а главное — при каких-то на их глазах случавшихся озарениях композитора,— вот точно так же физики-теоретики присутствовали при таинстве озарений, так часто осенявших Ландау, и наблюдали блеск и силу его мысли, и вместе с ним сопереживали преодоление трудностей, продвижение вперед... (Хотя, честно говоря, невозможно даже вообразить более неподходящее слово, чем «таинство», для описания собраний этой галдящей, и острящей, и разящей компании.) И за радость — присутствовать, за удовольствие — понимать, за это тоже ученики любили Ландау и были благодарны ему.
Правда, в некоторый момент аналогия с музыкой превращается в свою противоположность. Но это относится не к процессу творчества, а уже к «выходу в свет», Действительно, каждый может прийти в консерваторию и приобщиться к великой музыке — тому свидетельство переполненные концертные залы. Пусть оценить и понять ее можно лишь в меру собственных своих способностей, подготовленности и знаний, но слушать и получать удовольствие могут все. Не то в науке, да еще в такой, как теоретическая физика.
Ландау тоже изредка появлялся в широкой аудитории нефизиков. Его лекции были неизменно привлекательны и интересны. С одной из них мы познакомимся. Но смешно даже думать, что подобные лекции — по своему содержанию, конечно,— хоть в самой малой степени походили на лекции для студентов или на выступления на семинарах, на ученых советах и прочих научных собраниях. Здесь уже нет ничего общего ни с музыкой, ни со сценическим искусством, для которых выступление перед публикой часто бывает условием и стимулом для наиболее полного раскрытия своих глубин.
Физикам же глубина — и глубины — Ландау полнее всего раскрывались в их узком кругу, а бывало, только наедине с ним. И если кто и мог оценить его наиболее точно, так это именно они. Те, кто не наблюдал, не понимал его в часы, когда шло «служенье муз», не знали истинного Ландау, как бы умны и проницательны ни были сами по себе.
Но есть одна любопытная подробность, вроде бы противоречащая только что сказанному. В ответ на банальные, типично журналистские вопросы (которые порою даже неловко и задавать всерьез): «Чем он был для вас?», «Что он вам прежде всего дал?», и тому подобное, вопросы, где, кажется, ответы предопределены, известны заранее, и ждешь только разные, индивидуальные их формулировки, вдруг слышишь неожиданное:
— Дау сыграл в моей жизни фундаментальную роль по преодолению многих комплексов. Он был интеллигентным человеком, но не считал, что надо холить свои комплексы. Наоборот, надо в них разобраться и избавиться от них. Человек обязан быть счастливым... Хотя Дау и вера — несовместимые понятия, тем не менее это была его вера: человеку предписано быть счастливым.
И еще:
— Вот главное, что я получил от него: Дау учил, что в жизни, и в общественной и в личной, надо применять те же методы, что и в теоретической физике. Этому я научился и горжусь — применяю научный метод ко всем жизненным явлениям. У Ландау был, как он говорил, научный подход ко всему. Он этим владел потрясающе. К нему ходили, чтобы он проанализировал ту или иную жизненную ситуацию.
Первая реакция на подобные откровения представляется вполне естественной: не о том, не о главном говорят его ученики. А потом думаешь: «Боже, все-таки это какой-то особенный, уникальный талант — научить себя быть счастливым и научить этому других».
И хотя поначалу кажется странным и даже не очень серьезным всерьез об этом говорить, но, может, над такими вещами иногда и полезно подумать непредвзято. Может, общая наша позиция — просто дань давнишним, вековым заблуждениям. Обычно всеми молчаливо принимается, что любая область человеческой деятельности требует труда, приложения сил, затраты усилий. Любая — кроме одной. Той, что называется личной жизнью или человеческими взаимоотношениями. Здесь все пускается на самотек в тайной уверенности, что «само образуется». Между тем, вероятно, это самая сложная сфера жизни, и так редко, увы, в ней что-нибудь способно легко и само собой «образоваться». Недаром возникла ассоциация со вторым законом термодинамики: «само собой» ведет лишь к росту энтропии.
«Учитель жизни». Мы привыкли юмористически воспринимать такие слова. И в частности, с улыбкой относиться к этой «миссии» Ландау. А вот оказывается, что не только он сам относился к ней очень серьезно и непритворно гордился ею, но и для других это тоже было вполне серьезно и значимо.
Учительство в сфере личной жизни, человеческих отношений тоже отличалось своей спецификой. И здесь главенствовал научный анализ, а откровенность носила характер не исповедально-лирический, а скорее информационный — давала сумму сведений, необходимых для принятия разумного решения.
Да и сам Ландау, при всей его внешней открытости и непосредственности, в чем-то важном мог быть сдержанным и замкнутым. Существовали, вероятно, некоторые, особенно затрагивающие его события, стороны жизни, в обсуждении которых он был наименее откровенен как раз со своими учениками и друзьями-физиками. А другим, или не имеющим вовсе никакого отношения к науке, или физикам, не связанным с ним постоянными и прочными «научными узами», вдруг могли открыться мысли, самооценки, очень многое говорящие, переживания, подчас очень глубокие и, как это ни покажется странным, связанные именно с его работой, с физикой, с его местом в ней.
То, что Ландау говорил о таких вещах не со своими учениками, вполне укладывалось в традиции его школы. Не престиж, не самолюбие, а положение главы школы, метра, но еще больше стиль отношений, насмешливый, ироничный, без сантиментов и излияний,— вот что накладывало запрет на многие темы и предметы разговоров. «Это факт вашей биографии»,— одна из любимых сентенций Ландау, означавшая, что «факт» не следует выносить на публику. Такой стиль охотно подхватили ученики. Не мог же он после этого, разговаривая с ними, обсуждать подобный «факт своей собственной биографии». Законодатель, законоучитель — вот кем он был у себя в школе, и не ему было отступать от укоренившихся правил игры.
ТЕОРИЯ СВЕРХТЕКУЧЕСТИ ЖИДКОГО ГЕЛИЯ
Низкие температуры, абсолютный нуль и квантовая механика
Путь познания не бывает коротким и легким. Никогда и ни для кого. Ученый-первопроходец прокладывает пути в неизвестное, движется по целине. Ребенок, школьник идет протоптанными, но для него вечно новыми дорожками. Дорог множество. Одни существуют века, десятилетия, другие возникают на наших глазах, третьи еще предстоит замыслить. Дороги разные — все и для всех. И только единственным общим свойством они наделены — их нельзя запросто, без оглядки, проскочить в мгновение ока.
Случается, великие ученые приглашают присоединиться к себе в поисках истины, стать свидетелем того, как прокладывается новый маршрут. Иоганн Кеплер писал: «Речь ведь идет не только о том, каким образом проще всего ввести читателя в существо излагаемого предмета. Важно другое: по какой причине, с помощью какого хитроумного приема или счастливой случайности мне, автору, удалось прийти к тому, к чему я пришел. Когда Христофор Колумб, Магеллан и португальцы (первый открыл Америку, второй — Китайский океан, а третьи — морской путь вокруг Африки) повествуют о том, как они сбивались с пути, мы не только не осуждаем их, но, наоборот, боимся пропустить что-нибудь из их рассказов — столь большое удовольствие доставляет нам их чтение. Поэтому и мне не поставят в вину, если я из любви к читателю воспользуюсь в своей работе тем же приемом. Читая о похождениях аргонавтов, мы не испытываем перенесенных ими тягот, в то время как трудности и тернии на пути моей мысли, к сожалению, вполне ощутимы для читателя. Таков уж удел всех математических сочинений. (И, прерывая Кеплера, прибавим мы, вообще работ из многих областей современной физики, как теоретических, так и экспериментальных.— А. Л.) Подобно тому, как одни люди испытывают удовольствие от того, другие — от другого, найдутся и такие, которые испытают сильнейшую радость, когда, преодолев все трудные для понимания места, они единым взглядом смогут охватить цепь моих открытий».
Лаконичнее и проще сказал Эйнштейн в работе, где он сделал первую попытку раскрыть и описать строение Вселенной на основе созданной им общей теории относительности: «Я поведу читателя по дороге, пройденной мной самим, по дороге несколько непрямой и неровной, так как только при этом я могу надеяться, что он отнесется с интересом к конечному результату».
Это прекрасные слова. И прекрасно желание сделать читателя спутником в трудном пути и вроде бы соучастником трудных поисков. Такой же должна быть и цель книги, герой которой ученый. Хотя это так непросто. И без активного сочувствия читателя тут не обойтись.
Но жизнью и творчеством ученого интересуется больше всего тот, кому интересна сама наука; тот читатель, который не прочь затратить время и умственную энергию, чтобы хоть сколько-нибудь проникнуть в тайны мироздания, узнать новое о природе вещей, совершить путешествие в такие уголки Вселенной, куда еще не ездят экскурсионные автобусы. Однако, хотя автобусы туда и не возят, эти «заповедные места» становятся доступны все большему числу людей, особенно молодых.
Это возможно потому, что идет непрерывный процесс коллективного «поумнения» человечества, все более широкого привыкания его к новым понятиям и явлениям природы. Множеству людей ныне доступно и привычно то, что недавно казалось невероятным и непостижимым самым великим умам. Иначе бы не объяснить, не понять многие удивительные факты из истории науки.
Макс Планк, отец, родоначальник квантовой теории, в 1913 году, через тринадцать лет после своего открытия, написал представление об избрании Альберта Эйнштейна в Берлинскую академию. Наряду с высокими и хвалебными словами содержалось там и такое: «То, что он в своих рассуждениях подчас стрелял мимо цели, как это было, например, с его гипотезой световых квантов, не следует ставить ему в упрек, ибо, не идя на риск, даже в области точных наук нельзя сделать ничего действительно нового».
А речь шла ни больше ни меньше как об одной из величайших работ Эйнштейна, где он приписал свету квантовую природу. Некоторые физики (хотя они в явном меньшинстве) ставят это открытие даже выше теории относительности, полагая именно его истинным фундаментом квантовой механики.
В свою очередь, Эйнштейн, в науке, казалось бы, революционер из революционеров, до конца жизни не мог принять главную, пожалуй, идею квантовой физики — вероятностное истолкование процессов в микромире, или, как он считал, нарушение закона причинности: «Я не могу поверить, что бог играет со вселенной в кости» — эта полуироническая фраза не раз повторялась им, выражая глубокое смятение ученого перед крушением, как он был убежден, самых незыблемых основ физики. В защиту этих основ Эйнштейн много лет вел дискуссию с Бором, изыскивая все новые возражения и парадоксы, которые он выдвигал в опровержение некоторых исходных принципов квантовой механики.
Бор незадолго до смерти побывал в Москве. На встрече с учеными в Институте физических проблем он вспоминал об этой дискуссии:
— Мне хочется сегодня, когда Эйнштейна уже нет с нами, сказать, как много сделал для квантовой механики этот человек с его вечным, неукротимым стремлением к совершенству, к архитектурной стройности, к классической законченности теорий, к единой системе, на основе которой можно было бы развить всю физическую картину. В каждом новом шаге физики, который, казалось бы, однозначно следовал из предыдущего, он отыскивал противоречия, и эти противоречия становились импульсом, толкавшим физику вперед. На каждом новом этапе Эйнштейн бросал вызов науке, и не будь этих вызовов, развитие квантовой физики надолго бы затянулось...
Так движется наука — и в созидании своем и в овладевании умами.
А теперь, обращаясь к представителям школы Ландау, вспомним, как один из них сказал, что ученикам учеников все было легче, чем первому поколению,— и восприятие новых идей, и проникновение в сложности книг «Теоретической физики».
Такое происходит — естественно, на разных по степени трудности уровнях — с огромной массой людей. Им легче, чем раньше, понимать науку и интересней в нее погружаться. Подобно тому как наука захватывает новые и новые пространства в жизни человечества в целом — а может, как раз поэтому,— она овладевает интересами все большего числа людей.
Конечно, можно уберечь читателя от излишней умственной работы, предупредив, что автор не посетует, если что-то из науки будет опущено. Но лучше вспомнить и повторить слова Маяковского: «Я — поэт. Этим и интересен». На вопрос о том, каким хотелось бы увидеть Ландау в написанной о нем книжке, один из учеников ответил:
— Таким, каким он бывал на семинарах. Дау становился наиболее блестящим и интересным человеком именно тогда, когда был физиком.
Однако чтобы почувствовать Маяковского-поэта, достаточно почитать его стихи. Не обязательно, да и просто ни к чему брать предварительно томик Державина. Или даже близкого нашему времени Блока.
Не то с учеными и их открытиями. Здесь без предыстории не обойтись. Иначе трудно и понять открытие, и оценить его сущность и роль, а также место в здании науки. Знакомя читателя с предысторией открытия Ландау, нам придется часто расставаться с героем книжки.
Ведь жидкий гелий удалось получить в 1908 году (а именно с этого эпизода и начинается предыстория открытия, выбранного для рассказа), то есть в год рождения Ландау. Естественно, что младенец, пусть ему и уготовано большое будущее, в истории науки фигурировать не может.
С самого начала своей биографии, когда еще и мысли не было ни о жидком гелии, ни о низких температурах в современном понимании этого термина, гелий предстал перед учеными как необыкновенно экзотический элемент. Ландау говорил, что из всех химических элементов гелий, пожалуй, наиболее удивительный — Я во многих отношениях. Что удивительными являются я его свойства и его история, кстати сказать, в какой-то мере тоже связанная с его свойствами. Имея все это в виду, Ландау очень советовал прочитать книгу друга своей ленинградской юности. Вот что он писал в предисловии к ней:
«Книга «Солнечное вещество», принадлежащая перу безвременно погибшего талантливого физика Матвея Петровича Бронштейна,— незаурядное явление в мировой популярной литературе. Она написана с такой простотой и увлекательностью, что читать ее, пожалуй, равно интересно любому читателю ■— от школьника до физика-профессионала. Раз начав, трудно остановиться и не дочитать до конца».
Взяв в руки эту книжку, читатель увидит, что он уже знаком со всеми тремя физиками, причастными к ней.
Последнюю главку книги — «Двадцать лет спустя» — написал А. И. Шальников. В какой-то степени она — экстракт того, о чем мы сейчас собираемся рассказывать. Шальников образно описал поведение гелия, обращенного в жидкость. И очень точно. Да и как иначе. Уж он-то не один десяток лет занимается низкими температурами и с жидким гелием давно накоротке.
Итак, для знакомства с гелием-газом адресуем читателя к книжке «Солнечное вещество».
В истории науки нередки примеры, когда какой-нибудь пункт нашей планеты становится вроде бы столицей — всеми признаваемой — целой научной области. Так Копенгаген в продолжение нескольких десятков лет был общепризнанным центром теоретической физики, где считал своим долгом побывать каждый уважающий себя теоретик. И точно также Лейден, маленький голландский городок в дельте Рейна, стал центром большой науки в области низких температур. Среди многих других для работы сюда, в «Мекку холода», приезжали и харьковские друзья Ландау — супруги О. Н. Трапезникова и Л. В. Шубников.
Наиболее значительной фигурой в этом центре был Гейке Камерлинг-Оннес, в течение сорока лет руководивший кафедрой экспериментальной физики в Лейденском университете. С именем Камерлинг-Оннеса связан последовательный спуск к все более низким температурам и серия крупных открытий на этом пути.
Первое из них, вероятно, и неправильно называть открытием. Скорее, это было действие, трудная работа, направленная к достижению заранее поставленной цели. А цель — превращение гелия из газа в жидкость, ожижение гелия. Давно уже были получены и жидкий воздух, и его составляющие — азот и кислород, и ожижен водород. Один гелий не поддавался этой процедуре.
Теоретически удалось объяснить такое поведение. Гелий недаром называется благородным или инертным газом. Атомы его чрезвычайно симметричны и испытывают очень малые силы притяжения друг к другу. Но и среди прочих инертных газов гелий тоже занимает особое места, он находится на самом фланге. Потому что у атома гелия наиболее устойчивая электронная оболочка — внутренняя оболочка, притом целиком заполненная, с двумя электронами. Поэтому-то атомы гелия не испытывают поползновений к сближению с кем бы то ни было; в том числе и с себе подобными, наоборот, величайшим образом противодействуют этому.
...Наконец, после многих трудов и ухищрений, понизив температуру гелия до — 269 градусов, Камерлинг-Оннесу удалось привести его в жидкое состояние. Произошло это в 1908 году. Так физика вступила в область самых низких из возможных температур.
— 269 градусов Цельсия равняются примерно 4 градусам по абсолютной шкале температур — шкале Кельвина. А точнее — гелий сжижается при 4,2°К, когда остается меньше пяти градусов до абсолютного нуля.
Вопрос о температуре и способах ее измерения — и соответственно о шкалах температур — очень непрост и заключает в себе глубокое физическое содержание. Один физик как-то сказал, что полный ответ на вопрос «Что такое температура?» занял бы целую книгу и мог бы послужить хорошей иллюстрацией изменения взглядов и прогресса физики за последние четыре века. Это происходит потому, что по мере роста наших знаний простые, казалось бы, факты обретают новый смысл.
Температуру определяют по-разному. Говорят, что она есть мера средней кинетической энергии молекул тела. Или — мера нагретости тела. Или — что она есть метка, указывающая, для каких тел данное тело будет дарителем тепла, а для каких — получателем.
Мера, метка... тепла, нагретости, энергии, движения. Если вторая группа слов имеет определенный физический смысл, то первая говорит о какой-то условности, договоренности, произволе. И физики непременно подчеркивают это обстоятельство. В книге, которая называется «Физика для любознательных», сказано, например, так: «Термометры полезны нам как верные слуги. Но действительно ли за их преданным «лицом» — шкалой — скрыта Ее Сиятельство Температура?.. Все же сама температура или ее выбор остается концепцией нашего ума с возможностью выбора температурной шкалы. Далеко не все физические величины, которые мы измеряем и которыми пользуемся в науке, выглядят столь искусственно».
Подобному взгляду близка и позиция Ричарда Фейнмана, одного из крупнейших современных теоретиков:
«Средняя кинетическая энергия молекул — это свойство только «температуры». А будучи свойством «температуры», а не газа, она может служить определением температуры. Средняя кинетическая энергия молекулы, таким образом, есть некоторая функция температуры. Но кто нам подскажет, по какой шкале отсчитывать температуру? Мы можем сами определить шкалу температуры так, что средняя энергия будет пропорциональна температуре. Лучше всего для этого назвать «температурой» саму среднюю энергию. Это была бы самая простая функция, но, к несчастью, эту шкалу уже выбрали иначе и вместо того, чтобы назвать энергию молекулы просто «температурой», используют постоянный множитель, связывающий среднюю энергию молекулы и градус абсолютной температуры или градус Кельвина».
Физики говорят, что слова «гелий» и «низкие температуры» стали для них как бы синонимами. С одной стороны, сам гелий служит орудием для максимального охлаждения. А с другой — и это особенно важно — все удивительные события, связанные с поведением жидкого гелия, разыгрываются вблизи абсолютного нуля.
Абсолютный нуль — один из важных в физике пределов, с ним связана интереснейшая метаморфоза в жизни материи. И в самом пути к этому пределу, в сопутствующем преодолевании смущавшего всех «температурного произвола» есть тоже много интересного и небезразличного для предмета нашего рассказа. Поэтому стоит хотя бы бегло по этому пути проследовать.
Когда искали различные способы измерения температуры, то есть наполняли термометры разными веществами, выбирали точки отсчета и по-разному градуировали шкалы,— а весь этот процесс длился очень долго,— то перед наиболее дальновидными физиками все явственнее вырисовывалась необходимость найти какую-то шкалу, максимально независимую от свойств тех или иных веществ, от произвола измерителей.
Задача оказалась принципиально выполнимой. Таким идеальным работником для термометра стал идеальный газ. В середине прошлого века эта мысль пришла в голову Кельвину, и он построил газовый термометр, рабочим веществом в котором служил идеальный газ.
...Слово «газ» происходит от греческого слова «хаос» — беспорядок. Чем больше беспорядка, тем ближе газ к идеальному.
Механизм этого явления очевиден. В твердых телах, в кристаллах, тепловое движение молекул в высшей степени упорядочено. Они могут совершать лишь колебания около положения равновесия — своего «узла» кристаллической решетки. В жидкостях появляется больше свободы перемещения. Но все равно, силы взаимодействия очень велики. Молекулы живут в большой тесноте, в окружении одних и тех же соседей. В газах силы взаимодействия, препятствующие «хаосу», намного меньше, и если двигаться к пределу, к идеалу, то ясно, что чем более разрежен газ, тем все меньшую роль станет играть в нем взаимодействие между молекулами. Каждая из них практически будет жить «сама по себе» и ударяться только о стенки сосуда. Вот тогда-то газ и можно будет назвать идеальным.
Но на самом деле в очень большом интервале температур взаимодействие молекул играет такую малую роль, что им уже пренебрегают. (Слово «пренебрегать» весьма привычно в обиходе физиков; так однажды, попав в мастерскую скульптора, И. Я. Померанчук отметил, что общее между скульптором и физиком то, что оба знают, чем можно пренебречь.) Поэтому действительный ареал обитания газа, в котором он может считаться идеальным, достаточно обширен.
Кельвин, предложивший измерять температуру с помощью идеального газа, сам построил первый газовый термометр. Рабочим телом в нем был находящийся при постоянном давлении обычный атмосферный воздух. Когда воздух нагревался или охлаждался, мерой температуры служило соответствующее изменение его объема.
Но заслуга Кельвина не только в том, что он предложил наиболее точный и, по существу, не зависящий от произвола, от случайного выбора способ измерять температуру. Работа его имела важные последствия и для теории.
Если реальный газ, тот же воздух, или водород, или гелий, охлаждать все больше и больше, то поначалу — и довольно долго — он будет вести себя еще как идеальный, а потом в игру все-таки вступит взаимодействие между его молекулами. Оно будет все усиливаться с понижением температуры, пока, при определенном для каждого вещества ее значении, не заставит газ превратиться в жидкость. Конечно, при этом резко уменьшится объем по сравнению с тем, который занимал газ в своем амплуа «идеального».
Что касается того абстрактного газа, который до конца будет вести себя как идеальный, то он в пределе, при самой низкой температуре, сожмется в точку. Так как объем по природе своей, по своему существу не может быть отрицательным, то никакое дальнейшее понижение температуры невозможно. Или попросту не имеет физического смысла. Поэтому предельно низкую температуру назвали «абсолютный нуль». А шкалу, в которой отсчет ведется от абсолютного нуля, стали называть шкалой Кельвина, или абсолютной шкалой температур.
Можно, однако, мысленно проиграть и другой вариант «спуска» к абсолютному нулю. Будем охлаждать идеальный газ, сохраняя постоянным его объем. Естественно, что тогда начнет уменьшаться давление газа. И в пределе упадет до нуля. Не составляет большого труда догадаться, что давление станет равно нулю в момент, когда температура достигнет абсолютного нуля.
Что же означает нулевое давление? Давление газа есть суммарный результат ударов его молекул о стенки сосуда (и конечно, о прибор, это давление измеряющий). Как сказал однажды Ландау, непрерывная дробь ударов молекул сливается в единую силу давления. А сила давления связана со скоростью молекул и соответственно с их кинетической энергией. Но средняя кинетическая энергия частиц попросту пропорциональна абсолютной температуре газа. «Средняя кинетическая энергия молекул,— напомним слова Ричарда Фейнмана,— это свойство только температуры... а не газа».
Двигаясь назад по этой цепочке взаимосвязей физических процессов, следует сказать, что при абсолютном нуле обращается в нуль и кинетическая энергия частиц, а значит, и скорость их движения, а значит — что уже было получено раньше и другим путем — и их давление. Таким образом, нуль давления означает прекращение «бомбежки», то есть остановку молекул, конец теплового хаотического движения частиц, конец того «хаоса», от которого произошло название «газ».
Вот в чем исключительность абсолютного нуля, его глубокий физический смысл. При абсолютном нуле прекращается движение частиц. Частицы — атомы, молекулы — останавливаются, замирают, «замерзают».
И все же оказывается, что прекращение движения при абсолютном нуле не есть «абсолютная истина». Карты здесь спутает квантовая механика. Но пока ее еще нет, пока беспредельно царствует классическая физика, а потому при абсолютном нуле застыло все, мертва не только живая, но и неживая природа...
...Абсолютный нуль, как и положено пределу, недосягаем, недостижим. К нему можно только стремиться, приближаться все больше и больше. Это следует из теории. Но и на практике физики постоянно убеждаются, что чем ближе — тем труднее. Каждый последующий шаг, каждая доля градуса дается все с большим трудом. Один физик так полушутя-полусерьезно объяснил недостижимость абсолютного нуля: «Чтобы охладить материал от 100 до 10°К (то есть примерно от температуры жидкого воздуха до температуры жидкого водорода), требуется много труда и денег. Столько же требуется и для охлаждения его еще ниже, от 10 до 1°К, столько же для охлаждения от 1 до 0,1°К и от 0,1 до 0,01°К, так что с точки зрения растущей стоимости абсолютный нуль кажется практически недостижимым».
Недостижимость абсолютного нуля станет особенно впечатляющей, если вместо какой-либо из обычных шкал температуры (Цельсия, Кельвина, Фаренгейта), где цена любого и каждого деления — один градус, воспользоваться шкалой логарифмической.
В логарифмической шкале цена каждого деления соответствует десятикратному изменению — росту или уменьшению — величины. Если 1°К соответствует 0 логарифмической шкалы (так как lg1 =0), то одно деление шкалы будет соответствовать 10°К, два — 100°, три — 1000° и т. д. Так пойдет шкала вверх. Соответственным станет ее движение и вниз: минус единица будет означать 0,1° К, минут два — 0,01° К, минус три — 0,00Г К и т. д. Так как логарифм нуля равен минус бесконечности (lg0 = — оо), то получается, что абсолютный нуль лежит далеко-далеко; по достижимости своей он переместился в бесконечность.
Физики вообще любят пользоваться логарифмической шкалой. Вспомним, как Ландау оценивал по логарифмической шкале вклад в науку современных физиков-теоретиков. Но то была почти что шутка. С помощью логарифмической шкалы, помимо прочего, можно для наглядности сблизить большие, а потому далекие величины с величинами в десятки, сотни, тысячи и т. д. раз меньшими. В данном же случае, наоборот, логарифмическая шкала позволяет удалить в бесконечность, сделать недостижимым абсолютный нуль — и это ведь на самом деле так.
В Лейдене Камерлинг-Оннес продолжал свой давний трудный спуск к абсолютному нулю — не теоретический, а реальный, в экспериментах. В 1908 году, мы знаем, ему удалось привести к благополучному концу многолетние попытки превратить в жидкость последний, так долго и упрямо сопротивлявшийся газ. Охлажденный до температуры 4,2°К гелий стал жидкостью. Кипящей, бурлящей — словом, негодующей, но жидкостью.
Теперь в перспективе предстояло укротить упрямца окончательно — заставить затвердеть. И Камерлинг-Оннес двинулся к этой цели — далекой, хотя, как он надеялся, достижимой; ведь все вещества в конце концов затвердевали, становились кристаллами, когда их охлаждали до соответствующей температуры.
Однако у гелия «соответствующей температуры» не оказалось. Почти двадцатилетние усилия Камерлинг-Оннеса, окончившиеся с его смертью, не привели к успеху. «Вплоть до 0,83°К, самой низкой из температур, достигнутых Камерлинг-Оннесом, гелий... оставался жидким. Камерлинг-Оннес поставил перед собой задачу дальнейшего охлаждения жидкого гелия до абсолютного нуля для выяснения его агрегатного состояния при этой температуре, но ему не удалось дожить до завершения намеченных им исследований»,— вспоминал его ученик Биллем Гендрик Кеезом.
Ныне известно, что неудача была предопределена, коренилась в физической природе гелия, а потому спустись Камерлинг-Оннес как угодно близко к абсолютному нулю, гелий все равно не затвердел бы.
Но и тогда уже Кеезом, не задаваясь, вероятно, целью объяснить физическую суть явления, а просто используя результаты экспериментов своего учителя, решил пойти по иному пути. Учитывая фиаско с охлаждением гелия, Кеезом стал подвергать жидкость все большему и большему давлению. Наконец, при давлениях порядка 25 атмосфер удалось заставить гелий закристаллизоваться. При нормальном же давлении твердого гелия просто не бывает. Этот факт сам по себе указывал на необычность объекта. Это был знак, сигнал, который призывал обратить на себя внимание. Однако если сигнал и расслышали, то расшифровать его в то время не могли.
Естественно, что и Камерлинг-Оннес не смог ни понять загадочного поведения гелия, ни придумать ему объяснения и упорно стремился все больше и больше охлаждать его. А не смог потому, что причины лежали в чисто квантовых свойствах этой особенной жидкости, в «квантовом» ее поведении. Но откуда это было знать Камерлинг-Оннесу? В начале века даже само слово «квант» звучало непривычно, а к 1926 году, когда завершилась жизнь голландского физика, квантовая механика переживала только первый период своего становления, рождения главных принципов, и было ей еще не по силам, не по возможностям вторгаться во все физические парадоксы. К гелию в те годы применяли классические законы. Однако результаты экспериментов вступали с этими законами в конфликт.
Ландау всегда интересовался различными физическими превращениями вещества, которые принято называть фазовыми переходами. Используя способ описывать поведение вещества с помощью фазовых диаграмм (их еще называют диаграммы состояний), он так объясняет неизбежность, обязательность кристаллизации при низких температурах:
«Кривая равновесия твердого тела с газом уходит в начало координат (напомним, что на осях координат отложены температура и давление), т. е. при абсолютном нуле температуры вещество при любом давлении находится в твердом состоянии. Это обстоятельство является непременным следствием обычного, основанного на классической механике, представления о температуре. Согласно этому представлению при абсолютном нуле кинетическая энергия атомов обращается в нуль, т. е. все атомы неподвижны. Равновесным состоянием тела будет при этом то, в котором расположение атомов соответствует минимальной энергии взаимодействия атомов друг с другом. Такое расположение, отличаясь по своим свойствам от всех других расположений, должно быть как-то упорядоченным, т. е. представляет собой некоторую пространственную решетку. Это и означает, что при абсолютном нуле вещество должно быть кристаллическим».
Предыдущие страницы уже подготовили нас к необходимости распрощаться с классической физикой и обратиться к ее преемнице, квантовой механике. Впрочем, «преемственность» — не совсем правильное определение. Точнее, речь должна идти о разграничении «сфер влияния». И, вступая в новую сферу, нельзя забывать, что классическая физика, как и всякая классика, заслуживает самого глубокого уважения — пусть она и терпит провалы в некоторых экстремальных ситуациях.
Давно уже стало расхожей фразой, что квантовая механика есть физика микромира. Но ведь все тела, все вещества, все на свете состоит из тех или иных элементарных частиц. Почему же мы не наблюдаем, не ощущаем в нашей обыденной жизни, а также и в школьных физических опытах их квантовые свойства? Причина в том, что поведение вещества, тела как коллектива микрочастиц заслоняет, загораживает поведение и свойства составляющих этот коллектив частиц.
Капица говорил, что стремление обнаружить квантовую природу процессов, изучая вещество при комнатной температуре, похоже на попытку изучать законы соударения шаров на биллиардном столе, стоящем на качающемся в море корабле. А кто-то назвал тепловое движение частиц, затушевывающее их квантовую природу, шумом в чистой симфонии квантовой механики; из-за шума бывает невозможно расслышать саму музыку.
Но вот вещество охлаждается до низких температур. «Шумы» утихают, движения «затормаживаются». И тогда начинает открываться, обнаруживать тебя квантовый характер процессов. А потому, говоря словами Ландау, «по мере того, как с понижением температуры уменьшается энергия частиц, условия применимости классической механики рано или поздно нарушаются, и классическая механика должна быть заменена квантовой». Далее Ландау раскрывает глубинную физическую сущность этого явления:
«При температуре абсолютного нуля тепловое движение прекращается. Это утверждение, однако, отнюдь не означает, что прекращается всякое вообще движение частиц внутри тела. Согласно квантовой механике движение частиц никогда не прекращается полностью. Даже при абсолютном нуле должно сохраниться некоторое колебательное движение атомов внутри молекул или колебания атомов вокруг узлов кристаллической решетки твердого тела. Это движение — его называют нулевыми колебаниями — представляет собой квантовое явление, Энергия этого движения является характерной величиной для «квантовости» того или иного объекта. Сравнение энергии теплового движения частиц с энергией их «нулевого» движения может служить критерием применимости классической механики; последняя пригодна для описания теплового движения частиц, если его энергия достаточно велика по сравнению с «нулевой энергией».
Наиболее ярким примером «нулевого движения», полностью сохраняющегося и при абсолютном нуле, является движение наиболее легких частиц — электронов — в атомах».
При низких температурах стали проявляться различные, поначалу необъяснимые особенности поведения вещества. Давно было замечено, что странно ведет себя теплоемкость. Но оказалось, что совсем не странно, если на ее поведение взглянуть с «квантовых позиций». У некоторых металлов и сплавов появилась сверхпроводимость — электрическое сопротивление их упало до нуля, и ток в таком проводнике мог течь практически бесконечно долго. Это тоже, как впоследствии выяснилось, был чисто квантовый эффект.
Все это вроде бы не имело ни малейшего отношения к гелию, который продолжал оставаться жидкостью, а значит, по логике, еще не исчерпал своих «классических возможностей».
На самом же деле — как раз наоборот. Все вещества затвердевают прежде, чем их квантовые свойства проявляются в достаточной степени. Один лишь гелий потому и не затвердел, что он, будучи еще жидкостью, «успел» стать «квантовой жидкостью» (пусть это не покажется тавтологией — в словах этих заключен глубокий физический смысл), А квантовая жидкость подчиняется уже своим квантовым законам и, следовательно, не обязана затвердевать даже при абсолютном нуле.
«Квантовая жидкость» — не слышится ли нечто противоестественное в таком сочетании слов? В самом деле, квантовая механика по самому своему определению ведает микромиром. Ее законам подчиняются микрочастицы и некоторые их сообщества, а точнее — их поведение, микропроцессы, происходящие как с ними, так и между ними. А квантовая жидкость — это ведь заведомо макрообъект, видимый, так сказать, невооруженным глазом.
То есть квантовым объектом нежданно-негаданно оказалось не собрание микрочастиц, а весь жидкий гелий во всем своем макрообъеме. Таково первое противоречие или неясность, несуразность. А отсюда вытекает и второе. Известно, что частицы, подчиняющиеся законам квантовой механики, так выглядят и так себя ведут, что их вид и поведение невозможно ни представить — нам с нашим умом и зрением, воспитанными на классике,— ни описать классическим, то есть «понятным» способом. А жидкий гелий? Представлять себе в этом случае нет нужды — можно своими глазами видеть гелий и наблюдать его поведение.
И если вид гелия поначалу не очень смутил получивших его впервые голландцев, то «не такое» поведение его сразу настораживало. Сперва это были непонятные отклонения от привычных закономерностей, заставлявшие снова и снова проверять приборы и методику измерений. Потом появилось уже нечто из области «не верь глазам своим». Жидкий гелий оказался великим фокусником и иллюзионистом. И наблюдавшим это физикам все чаще приходилось повторять: «Не может быть!», «Что за чертовщина!»
Значит недаром показалось странным словосочетание «квантовая жидкость». Не случайно почудилось противоречие даже в самом соседстве двух этих слов...
Камерлинг-Оннес, продолжая нелегкие игры с гелием, чтобы принудить его стать кристаллом, упустил из виду некоторые странности, нелогичности, которые показывали приборы, или не обратил на них должного внимания, не придал им значения.
Один сигнал — правда, не очень громкий — гелий подал в 1911 году: почему-то плотность жидкости имела небольшой пик, небольшой максимум при температуре 2,2°К. Камерлинг-Оннес этот факт отметил — и только. Быть может, в ту пору внимание его было поглощено другим феноменом, другой загадкой: исчезновением электрического сопротивления у некоторых сильно охлажденных металлов. Загадка великолепно разрешилась. В том же 1911 году Камерлинг-Оннес открыл сверхпроводимость.
Два года спустя он получил Нобелевскую премию «в связи с его исследованиями свойств тел при низких температурах, приведшими, в частности, к получению жидкого гелия»; последний стал необходимым участником работ при сверхнизких температурах.
Пройдет много лет, и физики поймут, что в поведении жидкого гелия и сверхпроводящего металла, а точнее, в тех внутренних, интимных процессах, которые там совершаются, есть нечто сходное.
Законченная теория сверхпроводимости была создана почти полвека спустя после открытия Камерлинг-Оннеса. На определенном этапе этого долгого продвижения к истине весьма плодотворно потрудился и Ландау. А некоторую общность сверхпроводимости с поведением жидкого гелия Ландау отметил уже в своей первой — главной — работе о гелии.
...Гелий продолжал владеть мыслями голландских физиков. Никакой из доступных им способов воздействия, исследований, измерений не был забыт, упущен. Как и положено, измерялись различные физические характеристики жидкого гелия. И каждый раз в окрестностях загадочной температуры 2,2°К обнаруживались аномалии — экспериментальные точки «выскакивали» из плавной кривой.
Снова и снова появлялся максимум плотности гелия при этой температуре. Было ясно, что ошибки в экспериментах нет. Но по-прежнему какое-либо объяснение не приходило в голову.
И однажды прозвучал еще один сигнал. Крайне странно повела себя теплоемкость жидкого гелия — и опять при той же температуре. В этой точке она круто взметнулась вверх. А затем при дальнейшем охлаждении почти так же резко стала падать. И вообще движение к абсолютному нулю сопровождалось такой патологией в поведении кривой теплоемкости, что Камерлинг-Оннес и его сотрудники, надо думать, приписали ее каким-то внешним причинам — сложностям и неточности самих экспериментов, ошибкам в показаниях приборов, а значит, и в результатах измерений. Так или иначе, опубликованы были одни лишь «убедительные и надежные» цифры, относящиеся к температуре выше 2,2°К. То есть выше точки необъяснимого максимума плотности жидкого гелия. Другие даже не упоминались.
Когда в 1926 году, после смерти своего учителя, лейденские физики стали внимательно смотреть результаты его измерений, то оказалось, что Камерлинг-Оннес определял теплоемкость в широком диапазоне температур.
В последние месяцы жизни Камерлинг-Оннес с сотрудником обнаружил еще одну аномалию. На этот раз в поведении скрытой теплоты испарения. И тогда-то впервые — во всяком случае, впервые вслух — была высказана мысль, что, может быть, в этой точке, при этой температуре происходит какое-то превращение с самим жидким гелием.
Теперь голландских физиков все настойчивей стала преследовать мысль, что дело тут совсем не простое, что к этой загадке надо отнестись с предельной серьезностью и вниманием.. Потому что, как предположил Кеезом, «получение преувеличенных значений могло иметь своей причиной... и существование нового явления природы».
Вместе с сотрудниками Кеезом многократно повторяет измерения теплоемкости и получает убедительные стабильные результаты. Действительно, в точке максимума плотности кривая круто уходит вверх. Действительно, в этой точке кривая претерпевает разрыв и начинает почти так же круто падать. Действительно, при более низких температурах теплоемкость жидкого гелия больше, чем она же при температурах выше «роковой точки».
Заинтригованные таким результатом и вообще всей серией упорных, непрекращающихся сигналов о некоем новом явлении, Кеезом и его сотрудники попытались разглядеть или, как говорят физики, визуально определить, не происходит ли чего-нибудь с самой жидкостью в этой точке. И разглядели.
Обнаружилось, что всего на протяжении примерно двух градусов гелий оставался «самим собой». Когда температура его стала 2,2°К (а по более поздним и точным измерениям — 2,19°К), он взбунтовался. Происшедшие с гелием перемены поразили: изменился внешний вид, резко иным стало поведение. (Словно речь идет о человеке, и слова эти — завязка некоего детектива. Последнее, впрочем, довольно близко к правде.) По видимости, это был «бунт на коленях». Только что бурно кипевший гелий присмирел, утих, стал прозрачным, пропали пузыри. Казалось, он вот-вот совсем замрет, полностью успокоится. И затвердеет, как при охлаждении затвердевают все «послушные» жидкости.
Но не тут-то было. Под тихой личиной стали твориться невероятные вещи. Чудеса своеволия по-настоящему теперь только и начались.
Возникает вопрос: почему же опытнейший Камерлинг-Оннес не заметил этих превращений? Оказывается, разглядеть их было не так-то просто. Например, увидеть, кипит гелий или спокоен. Это же не поднять крышку у чайника и посмотреть, кипит — не кипит.
Надо отчетливо себе представить, что коль скоро дело касается жидкого гелия, то каждая процедура превращается в почти неразрешимую проблему. Ведь даже хранение — или сохранение — жидкого гелия тоже задача крайне непростая.
Одно из самых популярных слов в физике и технике низких температур — это сосуд Дьюара, или попросту дьюар.
Жидкий гелий хранится не просто в дьюаре, а внутри целого набора их, наподобие «матрешек» вставленных один в другой. Между дьюарами обычно заливают жидкий воздух, а во внутренний, содержащий уже дьюар с гелием — жидкий водород, как самую холодную после гелия жидкость. Только при такой системе охлаждения гелий не станет сразу же испаряться и с ним можно проводить различные эксперименты.
Но чтобы увидеть его, приходится делать в посеребренных стенках дьюаров смотровые щели, что, естественно, несколько ухудшает теплоизоляцию. Поэтому без крайней нужды их и не делают.
Может быть, это желание — просто посмотреть, не случается ли чего-нибудь с гелием при переходе через температуру 2,2°К,— даже и не возникало, не успело возникнуть у Камерлинг-Оннеса. И лишь несколько позднее ученики его, озадаченные всеми странностями, упорно повторяющимися именно при 2,2°К, пришли к мысли своими глазами взглянуть на то, как поведет себя гелий при критической температуре, скажется ли переход через «особую точку» на его внешнем виде и поведении или не скажется.
Вероятно, метаморфоза, которую наблюдали голландские физики, и стала последней каплей в чаше их терпения и сомнений. Все согласились на том, что гелий выше и ниже 2,2°К — не одно и то же, что это в чем-то существенно различающиеся жидкости.
Как же так, тот же самый жидкий гелий — и другая жидкость? Может ли вещество быть одним и тем же — и в то же время другим? Вода замерзает и превращается в лед. Закипая, вода превращается в пар. Следовательно, одно и то же вещество Н2О может находиться, как говорят, в трех фазах или в трех агрегатных состояниях. Эти понятия не всегда идентичны: «фаза» шире, чем «агрегатное состояние».
Некоторые кристаллы могут находиться в разных аллотропических модификациях. Их кристаллические решетки образуют разные структуры и вместе с этим изменяются физические свойства и внешний вид вещества. Переход из одной модификации в другую есть тоже фазовый переход, хотя агрегатное состояние не меняется.
Все фазовые переходы, каким бы ни было их конкретное воплощение, имеют набор характерных и обязательных особенностей. Строго определенную температуру перехода (естественно, при заданном неизменном давлении). Скачкообразность перехода. Сосуществование фаз в точке перехода. Поглощение или, в зависимости от характера перехода, выделение тепла в течение всего «переходного периода».
Обычно во всех тепловых процессах, если тепло привносится, то температура повышается, а если отнимается, то падает. При фазовых переходах вся привносимая — или, при обратном процессе, отнимаемая — теплота расходуется только на само фазовое превращение. Температура же не меняется и на долю градуса. Отсюда и возник термин «скрытая теплота» — плавления, испарения и разных прочих превращений.
Уже не сомневаясь, что жидкий гелий при температуре 2,2°К претерпевает некое существенное перевоплощение, голландцы поначалу подумали, что это должен быть фазовый переход. Хотя ведь есть только одно агрегатное состояние, внутри которого возможны фазовые переходы,— твердое. Никто не слышал о разных фазах в жидкостях или в газах.
Отлично все это зная, Кеезом с сотрудниками тем не менее провели через загадочную температурную точку некую границу. Выше нее жидкий гелий стал называться «гелий I», а ниже — «гелий II».
Однако при тщательном исследовании, при внимательном обдумывании нельзя было игнорировать замеченные аномалии. Обязательно присущие обычным фазовым переходам процессы здесь отсутствовали. Не было одновременного существования обеих фаз. Не было никакой скрытой теплоты превращения — самое небольшое нагревание всегда приводило к росту температуры.
Положение становилось тупиковым. С одной стороны — явное и резкое превращение, резкий переход. А с другой — не выполняется ни одно из необходимых условий перехода.
В хорошо построенном детективе в сверхкритическую минуту к месту преступления поспевает мудрый коллега Шерлока Холмса или комиссара Мэгре. Голландским физикам тоже сильно повезло. Рядом с ними оказался Пауль Эренфест; талантливый и остроумный теоретик, которого, мы знаем, русские называли Павел Сигизмундович, в те годы жил и работал в Лейдене. И конечно, все эти «гелиевы штучки» не могли пройти мимо него. Думается, именно к нему в первую очередь обратились озадаченные экспериментаторы.
Эренфест внимательно изучил накопившиеся результаты. И согласился с выводом, что действительно происходит превращение одного типа жидкого гелия в другой, но при этом скрытая теплота перехода и вправду отсутствует.
Как нелегко расстаются ученые с привычными представлениями. Как осторожно формулируют неожиданно возникающие, противоречащие канонам результаты. Вот некоторые фразы из статей голландцев: «В пределах ошибки измерений», «В пределах точности современной экспериментальной техники», «...принуждает авторов присоединиться к заключению, что скрытой теплоты, связанной с превращением в жидком гелии, не существует». И тому подобное.
Эренфест поступил смелее. Он прямо сказал, что процесс, происходящий в гелии при температуре 2,2°К, есть несомненно смена фаз, фазовый переход. Но столь же несомненно он не есть обычный фазовый переход. Это совершенно новое в физике явление со своим набором особенностей.
Пожалуй, самой впечатляющей особенностью был скачок — да еще какой огромный! — который в этой точке совершила кривая зависимости теплоемкости от температуры. Глядя на эту кривую, Эренфест предложил назвать точку перехода «лямбда-точкой», потому что форма кривой очень напоминала греческую букву «лямбда» — λ.
Скачок теплоемкости был не единственной особенностью этого перехода. В λ -точке отсутствовало, например, сосуществование фаз; никакой поверхности раздела между ними наблюдать не удалось. Если при обычном фазовом переходе чуть выше точки перехода была одна фаза, чуть ниже — другая, а в самой точке соседствовали обе, то в λ -точке творилось что-то странное...
Размышления о физической природе λ -перехода, теоретические расчеты, приложение к нему принципов термодинамики привели Эренфеста к широкому обобщению давнего понятия «фазовый переход». То, что всегда обозначалось этим названием, потом стали именовать «фазовый переход первого рода». А λ -превращение в жидком гелии получило название «фазового перехода второго рода». Вскоре выяснилось, что в разных веществах самого различного состояния и разной природы есть свои «лямбда-превращения», свои фазовые переходы второго рода со сходным набором отличительных свойств. Например, так называемая «точка Кюри» у ферромагнетиков.
А Эренфест, сделав такой важный вклад в физику, как всегда, не мог отрешиться от несчастной своей черты, от того комплекса неполноценности, недооценки себя, который стал одной из причин его рокового решения уйти из жизни. Даже в сугубо научной статье Эренфест, как рассказывал Кеезом, «выразил сожаление, что ему не удалось лучше сформулировать и понять это характерное отличие фазового перехода второго рода от «обычного» фазового перехода».
Спустя несколько лет Ландау с присущей ему четкостью так определил отмеченные Эренфестом особенности фазового перехода второго рода:
«...В то время как в точке фазового перехода первого рода находятся в равновесии тела в двух различных состояниях, в точке перехода второго рода состояния обеих фаз совпадают.
Отсутствие скачка состояния при фазовом переходе второго рода приводит к отсутствию какого-либо скачка в величинах, характеризующих тепловое состояние тела: его объеме, внутренней энергии, тепловой функции и т. п. Поэтому, в частности, такой переход не сопровождается выделением или поглощением тепла.
В то же время в точке перехода происходит скачкообразное изменение характера температурной зависимости этих величин. Именно наличие этих скачков и является основным характерным свойством переходов второго рода...»
(Прервав Ландау, напомним о скачке кривой теплоемкости в жидком гелии.)
«Фазовые переходы второго рода,— продолжал Ландау, излагая уже собственные свои идеи,— всегда связаны с появлением у тела какого-либо нового качественного свойства при непрерывном изменении состояния. Это может быть какое-то другое свойство симметрии (связанное с магнитными свойствами вещества), это может быть появление так называемой сверхпроводимости — исчезновение электрического сопротивления».
Итак, фазовый переход первого рода может происходить между двумя любыми различными состояниями. При этом веществу разрешено оставаться в том же качестве, а непременны лишь количественные изменения. Что касается фазового перехода второго рода, то здесь совершенно обязательно возникновение какого-то иного, нового, именно качественного свойства. Вещество может быть или таким, или другим. Новое свойство может либо присутствовать, либо оно отсутствует...
Эта главная особенность фазового перехода второго рода сделала такой странной, такой загадочной ситуацию с гелием. Действительно, гелий I — жидкость и гелий II — жидкость. Какие же качественные изменения могут происходить в жидкости? Ведь это же не кристалл, у которого возможно изменение симметрии.
...Здесь представляется случай заглянуть в «творческую лабораторию» Ландау. Его фундаментальная, широко известная работа «К теории фазовых переходов» (конечно же, занимающая почетное место в «Десяти заповедях») была опубликована в 1937 году. В эти месяцы Капица начал свои эксперименты с жидким гелием — и вот-вот он сделает решающее открытие.
Но пока еще главная особенность гелия II физикам неизвестна, и совершенно невозможно догадаться, что же происходит с жидким гелием в l-точке, что в нем может измениться качественно. Вопрос этот весьма занимает Ландау, он ищет какие-то вероятные решения.
А не является ли, предполагает Ландау, гелий II жидким кристаллом? Основная особенность жидких кристаллов — это одинаковая ориентация молекул жидкости. Например, если молекулы имеют удлиненную форму, то все они могут быть расположены своей осью в одном направлении. Однако такая ситуация, когда речь заходит о гелии, представляется Ландау не слишком обоснованной. Ведь для того чтобы асимметрия, неравнозначность направлений возникла не в жидкости со сложными молекулами, а в гелии, который состоит из одинаковых атомов, необходимо, чтобы сами атомы имели асимметричную электронную оболочку. «Ввиду некоторой странности такого предположения самое предположение о том, что Не II есть жидкий кристалл, делается сомнительным»,— пишет Ландау, сам же выдвигая аргументы против собственной гипотезы.
Ландау верит, убежден, что в гелии II происходит фазовый переход второго рода. Но какова его физическая природа? Явление было столь непонятным, что никакие другие идеи не приходили в голову, не намечался даже путь к возможной разгадке.
Так вопрос остался открытым. Пока... Время еще немножко не приспело. Но глубокий интерес к предмету уже поселился в уме Ландау,
В том же 1937 году, вслед за работами о фазовых переходах, Ландау публикует статью «К статистической теории ядер» — такая кардинальная смена областей и объектов исследования была, мы знаем, ему свойственна всегда.
«Если учитывать взаимодействие частиц в ядре,— пишет Ландау,— то, конечно, нет никаких оснований рассматривать ядро как «твердое тело», т. е. как «кристалл», а следует рассматривать его как «жидкую каплю» из протонов и нейтронов. В отличие от обычных жидкостей в этой жидкости существенную роль играют квантовые эффекты, так как квантовая неопределенность координат частиц внутри ядра значительно больше, чем их взаимные расстояния. Несмотря на то, что мы еще не имеем метода для теоретического исследования «квантовых жидкостей», можно все же вывести некоторые свойства ядер, применяя к ним статистические соображения».
Как видно, квантовая жидкость прочно завладевает вниманием Ландау. Он уже внутренне созрел, подготовлен к глубокому проникновению в этот новый для физики мир, к фронтальной атаке на его твердыни. Однако не подготовила еще почвы для решающих действий теории экспериментальная физика, Поле действий пока должно быть предоставлено ей.
Итак, гелий — единственный! — позволил себе, оставаясь жидкостью, стать в то же время жидкостью другой, особой, особенной. И внешние проявления этой особости — только цветочки. Появились и ягодки, когда стали измерять физические характеристики гелия II, притом такие, которые уже не один десяток лет измеряются у всевозможных веществ, простых и сложных, находящихся в различных состояниях. Измерялись тепло-. емкость, теплопроводимость, вязкость... словом, классические макроскопические характеристики.
И тут гелий II показал себя. Именно в этих классических характеристиках! Правда, не надо забывать, что условия, в которых велись измерения, были особенными, уникальными — близко-близко от абсолютного нуля.
Если странной была перемена внешнего облика жидкого гелия, едва лишь он, перейдя границу, стал гелием II, то куда более ошеломляющими оказались результаты, цифры, которые получили физики, в частности отец и дочь Кеезомы. В этой взволновавшей Капицу статье, опубликованной в только что пришедшем из Голландии журнале, было написано, что когда гелий I переходит через l -точку и становится гелием II, его теплопроводность увеличивается в три миллиона раз. Да что там гелий I... Самые теплопроводные в мире вещества, медь и серебро, проводили тепло в несколько сотен раз хуже гелия II. Металлы — хуже чем жидкость!
Теплопроводность — специфический (а вовсе не любой) процесс распространения, или переноса, тепла. Можно сказать, что это сугубый микропроцесс, который, однако, проявляет себя макроскопически. Постепенное выравнивание температуры тела есть результат передачи энергии одних микрочастиц другим.
В твердом теле частицы с достаточной жесткостью закреплены в определенных точках тела и могут совершать колебания только относительно этих «точек равновесия». При этом они делятся энергией с окружающими их соседями, те, в свою очередь, делятся со своими соседями — так идет процесс распространения тепла и постепенного выравнивания температуры. Таков механизм теплопроводности. Если твердое тело диэлектрик, то в нем идет такая вот медленная-медленная передача энергии от молекулы к молекуле. А в металле, как известно, тепло переносится не атомами, не ионами, а тепловым движением свободных электронов, «снующих» внутри кристаллической решетки. Скорости этих электронов порядка тысячи километров в секунду, тогда как скорости атомов и молекул всего лишь около километра в секунду. Вот почему электронная теплопроводность — теплопроводность металлов, особенно серебра и меди,— такая большая, примерно в тысячу раз больше, чем у других веществ. Иначе ведут себя жидкости и особенно газы. У их частиц нет закрепленных положений. Они могут с большей или меньшей свободой перемещаться и относительно друг друга, и относительно стенок сосуда, в котором заключены,— будь это просто стакан, или колба, или мировой океан, короче говоря, могут течь. Возможность течения жидкости влечет за собой появление существенно другой формы теплопередачи, отличной от теплопроводности (чаще всего это бывает не вместо, а наряду), так называемой конвективной теплопередачи. Это уже типичный макропроцесс, здесь перемещаются относительно большие объемы вещества. И перенос тепла осуществляется уже не беспорядочным тепловым движением атомов, молекул или электронов, а достаточно упорядоченным потоком макроколлектива частиц. Таково, например, перемещение масс теплого воздуха от костра, от печки, от батареи отопления. Потоки тепла могут возникнуть и при перепадах плотности или давления.
Чтобы вернуться к истинной теплопроводности, надо исключить возможность таких течений, перемещений исследуемой среды. Она должна быть однородна и находиться в покое.
Поэтому Кеезомы поступили совершенно правильно, когда заключили гелий II в капилляр. Тут уж ему не разгуляться — трудно вообразить, чтобы в тоненькой волосяной трубочке могли возникнуть какие-нибудь потоки гелия, а значит, и потоки тепла. Было очевидно, что если нагревать гелий с одного конца капилляра, то первый слой атомов начнет колебаться сильнее и передаст часть своей энергии соседнему, тот — дальше, и так до другого конца капилляра, куда раньше или позже «дойдет» температура «горячего конца».
Таким образом измеряется истинная теплопроводность, не затушеванная другими процессами, другими видами теплопередачи. Во всяком случае, таков нормальный способ измерения теплопроводности жидкости. Тут очень хочется прибавить — нормальной жидкости. Потому что, как становилось все более очевидным, гелий II был явно не таков.
— При понижении температуры за точку перехода жидкий гелий внезапно начинает проводить тепло совершенно сверхъестественным для жидкости образом,— сказал Ландау в одной из популярных лекций.— Вы, вероятно, слыхали, что жидкости вообще очень плохо проводят тепло, в частности, плохо проводит тепло и обыкновенная вода. Не лучший теплопроводностью обладают и другие жидкости, за исключением ртути, которая, как и все металлы, является хорошим проводником тепла. Плохо проводит тепло и гелий I, обыкновенный жидкий гелий. И вот при понижении температуры до точки перехода жидкого гелия от гелия I к гелию Ш он начинает проводить тепло лучше, чем самые лучшие проводники тепла — медь и серебро, причем изменение происходит внезапно. Свойство громадной теплопередачи, конечно, сразу обратило на себя внимание и показало, что в этой непонятной жидкости скрыто еще много удивительного. Но настораживало и другое.
Наряду с теплопроводностью к числу характеристик вещества, издавна и традиционно измеряемых физиками, принадлежит и вязкость.
— Вязкость,— сказал в той же лекции Ландау,— это способность жидкости сопротивляться движению. Вы ясно представляете себе, насколько труднее было бы плавать в меду, чем в воде. Соответственно этому говорят, что мед — это жидкость, гораздо более вязкая, чем вода.
Весьма интересовала вязкость жидкости, а также ее связь с теплопроводностью и Капицу:
— Вязкость — это свойство жидкости, определяющее ее текучесть. Вязкость есть как бы мерило внутреннего трения при течении жидкости. Например, в трубочке слой жидкости, прилегающий к стенке, неподвижен, следующий слой уже движется с некоторой скоростью, над ним движется слой с несколько большей скоростью и т. д. (как когда-то предлагалось сделать систему движущихся тротуаров). Между этими слоями существует скольжение, которое происходит с трением. Это трение вызывается тем, что атомы одного слоя в своем движении отстают от атомов следующего слоя и благодаря тем же силам взаимодействия мешают движению. В результате получается потеря энергии, которая и обусловливает вязкость жидкости. Из такой картины следует, что вязкость должна быть тем больше, чем больше движение атомов одного слоя влияет на движение атомов другого слоя, т. е. чем легче в теле распространяется тепло.
Действительно, чем более «тесное общение» существует между молекулами, тем больше теплопроводность. И точно так же, по той же причине — тем больше и вязкость.
А что же было измерено в гелии II?
Вязкость жидкого гелия измеряли канадские физики. Оказалось, что жидкий гелий вообще весьма маловязкое вещество, так вода примерно в тысячу раз более вязка (хотя куда ей, вспомним, до меда). Но главное, самая маленькая вязкость была у гелия II — в несколько раз меньше, чем у гелия I.
Возникло вопиющее противоречие. И вправду, как сочетать несочетаемое? На одну чашу весов положена фундаментальная непреложная закономерность: чем больше теплопроводность вещества, тем больше и его вязкость; это незыблемо, потому что вытекает из физических законов, из механизма и того и другого процессов. Бывает только так. (А не наоборот, как обнаружилось в гелии!) Но ведь и на другой чаше оказались тоже достаточно весомые факты: результаты экспериментов вполне авторитетных и квалифицированных физиков. Можно было допустить, что в измерениях есть некоторая неточность, вкрались кое-какие ошибки. Но не в сотни и тысячи раз!
Капица, еще не приступив к собственным экспериментам, а имея лишь дело с литературными источниками, сопоставляя результаты голландских и канадских физиков, понял, что разрешить противоречие можно только на пути кардинального пересмотра этих результатов, только следуя старому как мир принципу: «Подвергай все сомнению». Надлежало самому перемерить все характеристики. Но кроме того — и прежде всего — удостовериться: процессы эти, той ли они физической . природы, которую им приписывают, то ли они, за что себя выдают? Последнее относилось главным образом к теплопроводности.
Фантастически огромная величина теплопроводности — сверхтеплопроводность, как назвали ее Кеезомы,— заставляла задумываться об истинной природе передачи тепла. Действительно ли присутствовал и измерялся классический механизм теплопроводности? Нет ли здесь иного способа передачи тепла?
Капица предположил, что тепло переносится потоком жидкого гелия, что это теплопередача конвекционного типа. Большая текучесть или, иными словами, малая вязкость гелия II подтверждала предположение. Картина будто бы прояснялась.
Но едва лишь от качественного, словесного объяснения Капица перешел к подсчетам, как тут же убедился, что эта такая маленькая для настоящей теплопроводности вязкость слишком велика, чтобы ее можно было сочетать с конвекционной теплопередачей.
Теперь пришлось усомниться, и притом с достаточными основаниями, в справедливости результатов, полученных в Торонто. Для сомнения были две причины. И хотя одна из них относилась к способу измерений, а другая — к физическому процессу движения жидкости, но существовала между ними и принципиальная связь.
Забегая вперед, скажем: то, что было издавна знакомо, бессчетное число раз проверено, несомненно, как «дважды два», в гелии II вдруг обернулось такими неожиданностями и парадоксами, которые никак не удавалось понять до тех пор, пока Ландау не пришло в голову поистине фантастическое объяснение природы и поведения гелия II. Но об этом позже.
Итак, движение жидкости... Если представлять процесс совсем грубо и упрощенно, то следует сказать, что жидкость может течь по-разному: или совершенно спокойно, когда все частицы движутся в одном направлении, соблюдая положенный порядок, или же в ней могут возникать вихри и тому подобная «дезорганизация». Движение первого типа называется ламинарным, а второго — турбулентным.
Турбулентность потока может очень сильно исказить истинные значения вязкости жидкости — причем, в сторону их увеличения. Поэтому следовало придумать такую методику измерения вязкости, которая исключила бы — или свела к минимуму — турбулентность жидкого гелия.
Теперь непосредственно об измерениях. Существуют два принципиально различных способа измерять вязкость. Можно пропускать жидкость через узкие капилляры или щели и измерять скорость ее вытекания — чем больше вязкость, тем меньше скорость. А можно каким-то способом двигать в жидкости твердое тело, скажем, вращать в ней цилиндр; и тогда рассчитать величину вязкости, тормозящей движение, пользуясь величинами тех сил, которые вызывают вращение цилиндра.
Канадские физики воспользовались вторым из методов. Капица заподозрил, что на их результатах сказалась турбулентность, которая часто возникает при подобной методике.
Но следует особо подчеркнуть, что в «нормальных» жидкостях и при чисто проведенных измерениях величины вязкости, измеренные тем и другим способом абсолютно совпадают. Так что в претензиях Капицы была правда, но далеко не вся правда. Суть оказалась куда сложней и интересней,
Капица изучает поведение гелия II и открывает сверхтекучесть
Большинство физических концепций рождается из необходимости объяснить то, что необъяснимо старыми, уже существующими теориями. Учение Ландау о квантовых жидкостях родилось так и не так, Так — потому что оно тоже объяснило необъяснимое. А не так — потому что никаких «существующих теорий» просто не было. Еще предстояло раскрыть и «открыть» само поведение гелия II. Еще надо было в точных и достоверных экспериментах обнажить физическую сущность тех странных процессов, которые в нем обнаружились.
Такое удалось сделать Капице в остроумных и тонких исследованиях. До опытов Капицы фундамента для создания теории не существовало. Серия работ, проделанных в Институте физических проблем, раскрыла так много удивительных явлений, что сразу привлекла внимание и настоятельно потребовала своего осмысления.
Необходимо отметить, что и на экспериментальной стадии исследований сложности и загадки тоже возникали одна за другой, точнее, шли густым косяком, не оставляя времени для роздыха, для малейшей самоуспокоенности от сознания, что главная трудность — позади.
Капица часто и с охотой воспевает необходимость противоречий как двигателя науки. Тут его любимые противоречия с избытком вознаградили его. Казалось, они толпой стояли за дверями лаборатории и по очереди послушно являлись на каждом очередном этапе исследований. Являлись, чтобы свести на нет все едва возникавшие объяснения. Прямо скажем, уж чего не было в работе Капицы — это монотонности, однообразия и скуки.
Вероятно, ни для кого и никогда ни одно занятие не может выглядеть столь привлекательным и захватывающим, как для непосредственного исполнителя, увлеченного этой работой, живущего ею. Здесь одна из тех ситуаций, где быть «третьим лишним», вообще зрителем, не очень весело. Потому что это не спектакль, не концерт. И зрителю, хоть и понимающему что к чему, все равно не может быть так интересно, как участнику творческого процесса.
Капица подчеркивал, что даже руководить научной работой, хорошо в ней ориентируясь, но принимая минимальное участие, и то не дело для настоящего ученого: «Я уверен, что в тот момент, когда даже самый крупный ученый перестает работать сам в лаборатории, он не только прекращает свой рост, но вообще перестает быть ученым». И еще: «Только когда работаешь в лаборатории сам, своими руками, проводишь эксперименты, пускай даже в самой рутинной их части, только при этом условии можно добиться настоящих успехов в науке. Чужими руками хорошей науки не сделаешь».
Не один исследователь убеждался на собственном примере в справедливости этих слов. Потому что «самая рутинная» работа никогда не бывает работой без мысли и без эмоций. Казалось бы, всего лишь показания приборов... Но для того, кто эксперимент ведет,— это обнаженная картина явления, может, впервые увиденная, может, ожидаемая, даже привычная, а может, путающая все карты,— всякое бывает,— но никогда не безразличная. Вот почему жизнь экспериментатора так богата не только трудом, но и переживаниями.
За повторяющимися, обычно долго, утомительно, однообразно, измерениями исследователь всегда пытается разглядеть процесс, угадать его ход, его результат. Редко сопутствует тут удовлетворение, постоянно — надежда, а часто и разочарование. Приходит, конечно, и «госпожа удача». Однако куда чаще результаты удручают. Но и тогда следует быть предельно внимательным, потому что, случается, в самом противоречии и запрятано зерно удачи.
Едва ли наберется много случаев в практике науки, когда идея и схема экспериментальной работы, вроде бы убедительно и четко задуманная и рассчитанная, не претерпевала бы всяческих изменений в ходе исследования. Сами результаты ставят новые вопросы, дают новые повороты, вызывают необходимость непредусмотренных ранее экспериментов. Здесь надо постоянно думать и перестраиваться на ходу. А такое ведь не перепоручишь сотрудникам. Надо все видеть своими глазами, делать своими руками, чувствовать собственной кожей. Так и только так можно стать хозяином исследования.
Капица приступил к экспериментам с гелием с начала 1937 года. И в течение нескольких месяцев сделал свою первую, основополагающую работу, которая и завершилась открытием сверхтекучести гелия II.
Потом еще около трех лет ушло на тщательные исследования поведения гелия в различных ситуациях; на то, чтобы путем множества проверок и перепроверок убедиться, что все дикие выходки, которые позволяет себе гелий, не случайность, не фикция и не следствие ошибок экспериментатора; на то, чтобы поверить, что все эти загадочные эффекты отражают истинную физическую природу неизвестного прежде феномена, что они точны, достоверны и ждут своего теоретического истолкования.
От тех времен остались свидетельства в виде многочисленных подробных записей — опытов, измерений, которые шли последовательно, день за днем. Дневники эти вел и хранит постоянный и непременный помощник Капицы во всех его работах — Сергей Иванович Филимонов.
Никто из научных сотрудников не участвовал в этих исследованиях Капицы (Филимонов был тогда механиком), он провел их сам от начала и до конца. Но помогали ему два отличных мастера.
«Создание аппаратуры — это тоже творческая работа»,— любил повторять Капица. И еще: «Ничего так не тормозит, не расхолаживает и не угнетает научную работу, как медленное изготовление приборов для опытов».
Александр Васильевич Петушков мог все в стеклодувном деле — к примеру, изготовить любой формы и конструкции дьюары, впаять в них какие угодно устройства и сделать, чтобы то, что задумано движущимся, двигалось, а то, что должно стоять, стояло бы на месте, и чтоб вакуум можно было получить какой требуется, и тому подобное. Для Филимонова, похоже, тоже не было невозможного, когда дело касалось механических и электрических частей установки. Каждая идея, замысел Капицы тут же понимались, подхватывались, воплощались в действующую установку. Любое видоизменение опыта требовало изменений и в аппаратуре. И очень часто то, что было придумано вечером, наутро уже оказывалось готовым к работе. В этой части действительно ничто «не тормозило, не расхолаживало и не угнетало» Капицу. Работа его с Филимоновым шла в таком тесном контакте и полном взаимопонимании, что лучшего нечего было и желать. К тому же Филимонов был и неизменным участником экспериментов Капицы с гелием II.
Каждый день Капица, а чаще Филимонов заполняли протоколы опытов. Маленький схематичный рисуночек, показывающий основные задачи и принципы сегодняшнего эксперимента. Исходные данные. Затем колонки цифр, результатов. И если было возможно, если результаты позволяли, то следовали выводы.
Толстые подшивки этих ежедневно заполняемых листков хранят в себе подробнейшую информацию о том, как Капица шел и пришел к открытию. И только дважды за три с лишним года работы на протоколах крупными буквами цветным карандашом Капица написал: «Опыт обречен» (потому, что подвирал один прибор) и «Опыт забракован» (по сходной причине — что-то не сработало). Остальные сотни опытов были достоверны и надежны.
Итак, первой задачей и целью Капицы стало точное определение вязкости гелия. II. Известно, что главный враг точности здесь — турбулентность. Именно завихрения, легко возникающие в маловязкой жидкости, искажают, увеличивают истинное значение вязкости. Поэтому, чтобы максимально уменьшить, если не исключить полностью, турбулентность, жидкость заставляют течь сквозь тонкие капилляры. Искомая вязкость определяется по скорости протекания жидкости.
«Измерение вязкости жидкого гелия — трудная задача, ввиду необходимости создания такого метода, в котором можно было бы сохранить ламинарное движение даже при малой кинематической вязкости гелия»,— писал Капица.
В придуманном им приборе Капица сохранил преимущество капилляров — их тонкость, препятствующую турбулентности. Но при этом он сильно увеличил чувствительность метода тем, что через его прибор могло протекать гораздо большее количество жидкости, чем через капилляр.
Капица стал измерять вязкость при протекании гелия через минимально узкие щели — сквозь которые, казалось бы, даже самая невязкая жидкость едва-едва сумеет просочиться. И действительно, когда в прибор был налит гелий I, то за несколько минут сквозь щель «протиснулось» лишь еле заметное его количество. Но вот в дьюаре гелий II. Всего несколько секунд понадобилось на то, чтобы через щель протекло огромное — по сравнению с гелием I — количество жидкости.
Однако Капица думал, что и ему не удалось полностью избавиться от турбулентности, достичь чисто ламинарного течения гелия сквозь щель. Ставя новые и новые опыты, улучшая методику, уменьшая ширину щели, он все явственней убеждался, что полученные им поистине феноменально малые значения вязкости — тоже еще не предел. Похоже, что предела уменьшению ее просто нет. Такая мысль все настойчивей посещала Капицу.
Заключая этот этап исследований, Капица писал, что жидкий гелий II «уже обладает вязкостью по крайней мере в 10 000 раз меньшей, чем водород в газообразном состоянии при самой низкой температуре, при которой вязкость его имеет наименьшее значение. Как известно, вязкость газообразного водорода считалась наименьшей измеренной вязкостью, известной для какой-либо текучей среды. Мне кажется, что этого предела уже достаточно, чтобы по сравнению с явлением сверхпроводимости считать, что жидкий гелий ниже точки l принимает особую модификацию, которую ввиду ее исключительно малой вязкости можно было бы назвать «сверхтекучей».
Так было произнесено слово «сверхтекучесть». Собираясь обнаружить истоки и причины явно ненормальной «сверхтеплопроводности», измеренной Кеезомами, Капица открыл действительно новое в физике явление — сверхтекучесть гелия II. Так и просится сравнение с Колумбом, который поплыл искать путь в Индию, а открыл Америку. Может, это сравнение несколько поверхностно. Потому что, хотя само явление сверхтекучести было неожиданным, Капица открыл его вовсе не случайно и быстро понял, что Америка — это Америка. Среди физиков, а в XX веке особенно, были Колумбы, и они сумели доплыть до своих «Америк»...
Открытие сверхтекучести, этого неизвестного прежде свойства материи, положило начало целому циклу работ Капицы по изучению особенностей гелия II. Ведь даже загадочно гигантская теплопроводность пока не нашла своего объяснения (и не была еще измерена самим Капицей). Интуитивно представлялось, что разгадка связана именно со сверхтекучестью, благодаря которой, как полагал Капица, легко возникают и конвективные потоки, и завихрения жидкости, ее турбулентность, а оба эти процесса должны сильно увеличивать теплопередачу.
Капица оказался правым в своем исходном предположении. Но насколько — прямо-таки неизмеримо — более сложными, непредугадываемыми, непредсказуемыми оказались все те процессы и явления, изумленным зрителем, свидетелем которых становился он во время своих разнообразных экспериментов. Об этом — чуть позже...
— Наиболее замечательное свойство жидкого гелия,— сказал Ландау в популярной лекции,— было открыто советским физиком Петром Леонидовичем Капицей. Капица показал, что жидкий гелий вовсе лишен всякой вязкости. Он произвел очень простой и необычайно важный эксперимент. Он наблюдал протекание гелия через очень тонкие щели. Щели эти были настолько тонкие, что даже такая с обычной точки зрения невязкая жидкость, как вода, вытекала бы через эти щели в течение многих и многих суток. Оказалось, что жидкий гелий II протекает через щели в течение нескольких секунд. Капице удалось показать, что вязкость гелия отличается от вязкости воды не менее чем в миллиард раз. Это только верхний предел, связанный с точностью экспериментов, тот предел вязкости, который наблюдал Петр Леонидович Капица. Вязкость гелия II оказалась столь маленькой, что вообще не могла быть измерена. Можно утверждать, что жидкий гелий просто лишен всякой вязкости. Это явление получило название сверхтекучести. Поэтому гелий II называют сверхтекучей жидкостью.
Ландау рассказал и еще об одном удивительном явлении — гелий постоянно демонстрировал физикам фокус, который они никак не могли разгадать:
— Жидкий гелий ниже 2°,— сказал Ландау,— обладает странным свойством переходить непонятным образом из одного сосуда в другой. Если имеются два сосуда с гелием, находящиеся в непосредственном соприкосновении, и уровень в одном из них выше, чем в другом, то через некоторое время уровни сравниваются.
(Всем известно, что такое сообщающиеся сосуды. А ведь Ландау говорит о сосудах, вовсе в таком смысле не сообщающихся: в одной половине перегороженного непроницаемой стенкой сосуда налито гелия больше, а в другой — меньше.)
— Открытие Капицей сверхтекучести,— продолжал Ландау,— сразу объяснило казавшееся почти мистическим перетекание гелия из одного сосуда в другой. Все жидкости, смачивающие стенки, покрывают эти стенки очень тонким слоем. Этот тонкий слой незаметен для глаза и обычно вообще никак не проявляется. В жидком гелии благодаря сверхтекучести жидкость довольно быстро перетекает из сосуда по этой тонкой пленке, которая имеет, толщину стотысячной доли миллиметра. Еще более удивительным представляется другое свойство гелия. Капица показал, что гелий сверхтекуч, т. е. мгновенно вытекает через всякую щель. Протекание через щель есть не единственный способ измерения вязкости. В физике известны и другие способы, которые основаны на сопротивлении жидкости движению в ней тела.
Если вы хотите измерить вязкость воды, вы можете измерить обоими способами: вы можете воду пропускать через щель и можете двигать в воде тело и определять вязкость по тем силам, которые действуют на это тело. Для гелия были применены оба эти способа, и оказалось, что в то время, когда у всех жидкостей, они приводят к совершенно тождественным не только качественным, но и количественным результатам, у гелия они приводят, если можно так выразиться, к результатам противоположным. Жидкий гелий II при протекании через щель сверхтекуч, т. е. не обнаруживает вовсе никакой вязкости. Но он обнаруживает сопротивление движению тела, т. е. в то время, когда все обыкновенные жидкости обладают обыкновенной вязкостью, жидкий гелий обладает двумя совершенно различными по природе вязкостями: одной бесконечно малой, отсутствующей, и другой вполне ощутимой, измеряемой вязкостью.
Пришел черед браться за разрешение загаданной Кеезомами загадки о «сверхтеплопроводности» гелия II, выяснить, что она такое на самом деле и откуда взялась огромная ее величина.
Прежде всего наметилась простая, ясная и, казалось, достоверная картина. Гелий II — сверхтекучая жидкость. Значит, тепло в нем может и должно распространяться путем конвекции. Притом, опять же благодаря сверхтекучести, распространяться очень быстро.
Такое объяснение, пока оно было чисто качественным, словесным, не могло вызывать возражений. Но физика — наука точная. И коль уже речь зашла о конвекции, то существует ее количественная характеристика. Скорость конвективной теплопередачи тесно связана со скоростью движения самого вещества.
Чтобы проверить численное соответствие скоростей конвекции и передачи тепла, Капица разработал филигранную технику измерения обеих этих величин. Так, для получения точного значения теплопередачи он мог измерять разность температур в несколько миллионных долей градуса.
И опять завязался клубок противоречий. Капица получил еще большую величину, чем измеренная Кеезомами. Соответствующая ей скорость конвекции должна была доходить до тысячи метров в секунду.
— Немыслимо предположить,— рассказывал потом П. Л. Капица,— что гелий в капилляре двигается со скоростью, которая превышает скорость полета пули. Можно показать, что отсутствуют источники энергии для таких мощных конвекционных потоков. Полученные нами результаты, оказывается, вели к еще большим затруднениям, если механизм теплопередачи путем конвекции отпадал.
Но и механизм обычной, нормальной теплопроводности — передачи теплового движения от одних атомов к другим — тоже никак не согласовывался с остальными цифрами, вступал с ними в противоречие.
Становилось ясно, что в гелии II происходит теплопередача каким-то особенным, не известным способом.
— Как же дальше искать механизм этой теплопередачи, не имея никакой руководящей идеи? — рассказывал Капица, вспоминая те месяцы.— Ведь наши результаты в основном противоречили всем известным теоретическим представлениям. На поиски выхода из этих противоречий мы затратили около года. Тут пришлось идти ощупью, пробовать самые разнообразные физические факторы, под влиянием которых, может быть, будет меняться теплопроводность. Мы испробовали влияние на теплопередачу в гелии II давления, силы тяжести, времени и т. д. Результаты получились отрицательные— теплопроводность не изменялась, оставаясь такой же большой.
Капица надеялся, что, нащупав какие-то способы воздействия на величину теплопередачи, он таким образом, может быть, сумеет получить в руки ключи, откроющие ему сам механизм явления.
И вдруг совершенно случайно...
Впрочем, «вдруг» можно, например, попасть под машину или найти кошелек с деньгами, А когда все время ищешь, когда обострены мысли и внимание, то «вдруг» становится ожидаемым и желанным.
Тем не менее действительно — вдруг совершенно случайно заметили, что «неподдающаяся» теплопроводность оказалась крайне чувствительной — подумать только! — к весьма малым пульсациям давления гелия в трубопроводе. Как обычно в лабораторию по трубам подаются газ, горячая и холодная вода, так же Капице доставлялся и жидкий гелий. Пульсации эти, естественно, передались и гелию, находившемуся в капилляре.
— Наконец одно совершенно случайное наблюдение дало нам сразу новое направление в работе,— рассказывал Капица.— Оказалось, что пульсации давления, совершенно случайно передаваемые из лабораторной сети гелиевого трубопровода на гелий в капилляре, сильно изменяли его теплопроводность. Хотя пульсации были очень малы, но они уменьшали теплопроводность гелия II в десятки раз.
Капица стал размышлять: каким образом эти небольшие пульсации могут так сильно влиять на теплопроводность гелия?
— Наиболее естественное объяснение было следующее. Известно, что жидкий гелий II — сравнительно легко сжимаемая жидкость — примерно в сто раз легче, чем вода. Благодаря этому свойству пульсации давления, сжимая жидкость, могли вызывать потоки гелия в капилляре, где изучалась его теплопроводность. Мы и предположили, что эти потоки влияют на теплопроводность. Чтобы проверить правильность этого объяснения, надо было поставить опыты, где измерялась теплопроводность гелия, когда он протекает через капилляр. Когда это было сделано, то оказалось, что действительно в гелии II, текущем в капилляре, теплопроводность уменьшена в сто и даже в тысячу раз. Эти эксперименты также обнаружили, что пока через гелий течет тепло, то он легко протекает. Этим была установлена связь между потоками жидкого гелия и его способностью переносить тепло, и это явилось ключом к дальнейшим исследованиям.— Так рассказывал Капица о неожиданном и странном, но, к счастью, благополучном окончании долгих поисков и блужданий. Так он нашел выход из тупика и смог приступить к фронтальному изучению всех тех особенностей в поведении гелия, которые связаны с теплом,
Связь «движение — тепло» или «тепло — движение» оказалась для гелия II совсем особенной. Исключительность эта проявляется в целой серии эффектов, никогда и нигде, ни в каких других физических процессах не наблюдающихся.
Глядя на такие эффекты или хотя бы читая о них, куда легче вообразить, что присутствуешь при фокусах иллюзиониста, чем представить себя сидящим в лаборатории во время очередного эксперимента, где многочисленные приборы бесстрастно фиксируют все то, что видят — хочется сказать: не верь им! — собственные глаза.
Вот, пожалуй, самые впечатляющие.
Имеются два соединенных между собой сосуда с гелием. Раз они соединены, то естественно, что и в одном и в другом сосудах гелий одинаков по всем своим характеристикам — а значит, обладает и одинаковой температурой. Опыт заключается в том, что гелий заставляют перетекать из одного сосуда в другой через узкую щель. Казалось бы, при этом в одном сосуде количество гелия должно увеличиться, а в другом уменьшиться, и ничего больше. Но не тут-то было...
— Когда гелий течет через щель, то происходит странное явление с теплом,— рассказывал Ландау.— Если гелий перетекает из одного сосуда в другой через очень узкую щель, то оказывается, что при этом гелий в том сосуде, куда он втекает, охлаждается, а в том сосуде, из которого он вытекает, нагревается. Это явление получило название «термомеханический эффект» и само по себе представлялось крайне удивительным.
И вправду удивительно. Получается, что гелий, вытекая, «прихватывает» с собой добавочный холод, который и отдает своему новому жилищу. А старому, наоборот, оставляет добавочное тепло. Физикам было абсолютно непонятно такое странное обращение с теплом — как будто его можно отделить от вещества и пустить в самостоятельную жизнь, где-то оставить, бросить, куда-то принести.
— Капице удалось сделать эксперименты, кажущиеся еще более удивительными,— продолжал свой рассказ Ландау.
Вот грубая схема одного из опытов, который имел в виду Ландау. Большой дьюар с гелием. В него погружена маленькая колбочка, или, как ее называют Капица и Ландау, бульбочка, тоже наполненная гелием. В бульбочку впаян капилляр, другой конец которого открыт. Вблизи открытого конца на сбалансированном коромысле можно помещать различные предметы: крылышко, зеркальце, экран и другие. И по их реакции, их поведению, которое и наблюдалось визуально, и четко регистрировалось различными приборами, удавалось установить, что происходит с гелием в бульбочке и капилляре в разных ситуациях. А главное — при нагревании.
Капица поместил напротив отверстия капилляра легкое крылышко. Как только в бульбочке включался нагреватель, из отверстия капилляра начинала бить струя гелия. Невидимая, она достаточно зримо давлением своим отклоняла крылышко. Затем, несколько сдвигая крылышко, Капица показал, что струя эта точно направлена по продолжению оси капилляра и почти не расширяется, не расходится в стороны.
— Обстоятельство, удивительное во всех отношениях,— рассказывал об этом опыте Ландау.— Удивителен не только сам факт, что при нагревании ни с того ни с сего бьет струя гелия. Еще более удивительным является то обстоятельство, что сосуд при этом не пустеет. Если из сосуда систематически вырывается струя жидкости, то через короткое время в сосуде не должно ничего остаться. В данном случае никаких изменений не происходит. Сосуд остается наполненным гелием, как вначале.
Ландау здесь ничего не преувеличил. Каждый, кто наблюдал этот опыт и видел все доподлинно своими глазами, готов был объявить такое обманом зрения. Из сосуда бьет струя гелия — непрерывно, долго; и пока длится опыт, а может он идти сколько угодно времени, видишь, как эта струя отклоняет крылышко, все время одинаково, ничуть не слабее. Когда же она перестанет бить? Когда истощится запас гелия в сосуде? Никогда. Так же четко видно — гелия сколько было, столько и осталось.
— Получается библейский эксперимент в стиле куста, который горит и не сгорает,— говорит Ландау.— Так и здесь: бульбочка, из которой бьет струя и которая при этом не пустеет, а остается столь же полной, какой была и вначале.
Это обстоятельство,— продолжал Ландау,— является одним из многочисленных примеров такой парадоксальности свойств жидкого гелия. Его свойства на первый взгляд кажутся совершенно нелепыми. Как в известном анекдоте о жирафе, про которого сказано, что «этого не может быть». Такое, примерно, ощущение вызывают свойства жидкого гелия. Получается ощущение, что вообще этого не может быть, что эти свойства гелия логически противоречивы. Само собой разумеется, что никаких логических противоречий здесь, как и в других областях физики, быть не может. Это показывает только, что причины этих свойств лежат в очень необычных вещах, очень чуждых нашему представлению. И действительно, в дальнейшем мне удалось построить теорию, которая объяснила некоторые существенные из свойств жидкого гелия.
Еще до того, как Ландау создал свою теорию, Капица в качестве рабочей гипотезы — а она всегда необходима в процессе исследования — предложил такое истолкование парадокса: все время, пока из капилляра бьет струя гелия, в бульбочку по тончайшей пристенной пленке того же капилляра «заползает» гелий извне. Благодаря сверхтекучести это заползание происходит очень быстро, поэтому гелий в бульбочке и не иссякает.
Этот же механизм Капица привлек и для объяснения огромной теплопроводности гелия II.
— Мы имеем основания предположить,— говорил Капица,— что гелий, в тонкой пленке двигающийся по поверхности, отличается по своему физическому состоянию от того, который течет в обратном направлении в центральной части капилляра. Он находится в несколько другом энергетическом состоянии. Говоря языком термодинамики, у него другая тепловая функция, чем у свободного гелия. Этого предположения, по-видимому, вполне достаточно, чтобы объяснить большую теплопередачу гелия, которая наблюдалась в капилляре. Наблюдаемая при опыте картина такова: когда гелий по внутренней поверхности капилляра втекает в бульбочку и, покидая поверхность, переходит в свободное состояние, он поглощает тепло. Этот процесс и создает впечатление колоссальной теплопроводности.
Истинный процесс оказался еще более неожиданным, чем предполагал Капица. Ничего подобного в физике прежде известно не было. И исключено, что подобное кому-нибудь удалось бы просто предугадать, Вооружившись всем накопленным экспериментаторами материалом, Ландау взялся за теоретическое раскрытие феномена гелия II.
Ландау привлекает квантовую механику —
физику микромира, чтобы объяснить
события в макромире
— Мне удалось построить теорию, которая объяснила некоторые существенные из свойств жидкого гелия,— рассказывал потом Ландау в аудитории Политехнического музея. И добавил, имея в виду пестрый по своему образованию и профессиям состав слушателей: — Было бы невозможно, даже в самых общих чертах, попытаться объяснить вам сущность этой теории. Она основана на одном из величайших достижений физики XX века, так называемой квантовой механике. Квантовая механика — это бесконечно сложная как методически, так и по заложенным в ней физическим понятиям область теории физики, и она характеризуется тем, что многие из используемых ею понятий очень плохо доступны нашему восприятию. Объясняется это тем, что наше восприятие воспитано не столько на мощи нашего интеллекта, сколько на нашем повседневном опыте. Мы легко воспринимаем те вещи, которые мы видели, и очень плохо воспринимаем те вещи, которые не видели.
Отказ Ландау от популярного изложения своей теории совсем не случаен. За этим скрывается присущая ему научная целомудренность — если можно так сказать,— боязнь, скорее всего и неосознанная, некоего удешевления науки, самого высокого и существенного в ней. И нерасторжимая с таким отношением, как другая сторона медали, вера в «мощь нашего интеллекта».
Ландау словно говорит: не пытайтесь обманывать природу, стараясь представить то, что представить нельзя; это недостойно, а кроме того, вы сами окажетесь обманутыми. Лучше доверьтесь разуму. Он вам поможет, он не откажет. Не надо профанации — обращения к представлениям и чувствам там, где они беспомощны. То, что есть достояние ума, а не воображения, надо постигать лишь умом. Богу богово, кесарю кесарево. Подобные панегирики силе и возможностям человеческого мозга, ума, интеллекта друзья и ученики часто слышали от Ландау. Вот что, к примеру, об этом пишет Е. М. Лифшиц: «Он рассказывал, как был потрясен невероятной красотой общей теории относительности (иногда он говорил даже, что такое восхищение при первом знакомстве с этой теорией должно быть, по его мнению, вообще признаком всякого прирожденного физика-теоретика). Он рассказывал также о состоянии экстаза, в которое привело его изучение статей Гейзенберга и Шрёдингера, ознаменовавших рождение новой квантовой механики. Он говорил, что они дали ему не только наслаждение истинной научной красотой, но и острое ощущение силы человеческого гения, величайшим триумфом которого является то, что человек способен понять вещи, которые он уже не в силах вообразить. И, конечно же, именно таковы кривизна пространства-времени и принцип неопределенности».
Думается, что как раз поэтому Ландау, отличный популяризатор, начисто и принципиально отказывается популяризировать «невообразимые вещи» или дает им лишь феноменологическое — «внешнее», «описательное» объяснение.
Но поскольку Ландау не налагал запретов на популярное изложение его теории, то можно рискнуть это сделать. Отважиться показать, пусть только «на пальцах», основные ее идеи.
Вероятно, для этого надо хотя бы немножко почувствовать и характер мышления Ландау или, скажем так, путь, движение его мысли.
Проблема или загадка мышления ученого — «материя» крайне непростая. И она ничуть не становится проще, если речь идет о физике-теоретике. А уж о теоретике Ландау и подавно.
Конечно, куда как заманчиво проникнуть в лабораторию мысли, творчества ученого. Но задача эта едва ли осуществима. И не только, да и не столько потому, что у каждого ученого процесс мышления протекает по-своему и всех различий и нюансов не охватишь. А потому, что большей частью сам процесс этот есть тайна за семью печатями. Не то чтобы сам ученый, или поэт, или художник так уж жаждали сохранить свой секрет. Думается, механизм их творчества в известной мере тайна и для них самих.
Существует документальный фильм о работе Пушкина над рукописью. Показана последовательная смена слов на черновиках. И воочию видишь, как средние, почти случайные слова заменяются хорошими, хорошие — талантливыми, наконец, талантливые — гениальными. И все потому, что есть здесь свой собственный секрет, который никому не дано раскрыть — иначе и другие бы стали Пушкиными; секрет заключается в том, что эта видимая на экране смена слов, до гениальных, обнаруживает свое движение к гениальности единственно в данном контексте. И такой вот оптимум может найти лишь интуиция гения.
Как-то раз некий юный новоиспеченный философ попросил одного хорошего физика объяснить ход мышления Эйнштейна и Бора.
— Если бы я мог объяснить механизм мышления Эйнштейна и Бора, то я, наверное, смог бы сделать подобное тому, что сделали они,— был ответ.
Широко известно объяснение Эйнштейна, как и почему именно ему пришла в голову идея теории относительности. Оказывается, все дело в его «запоздалом развитии». Он не по возрасту поздно стал задумываться над такими вопросами, о которых обычно перестают думать уже в юности. «Что такое время? Что такое пространство?..»
Так родилась теория относительности.
А Бор? Может, следует сказать, что это было озарение, что Бора просто осенило, когда он, строя модель атома, высказал один из своих знаменитых постулатов. Или что ему надо было каким угодно образом найти выход из безвыходного положения — и тогда возникла его «безумная идея» об электроне, который вращается по орбите вокруг атомного ядра и при этом не излучает электромагнитной энергии. Двигается и не излучает! Постулат Бора, во-первых, противоречил незыблемому закону физики, гласящему, что всякий движущийся заряд (или заряженное тело) обязательно излучает электромагнитную энергию. А во-вторых, как и всякий постулат, он был недоказуем, не подлежал обоснованию. Не излучает — и все! Ведь энергия излучающего тела уменьшается, и непрерывно излучающий электрон в конце концов просто упал бы на ядро, чего в действительности не происходит. Так Бор открыл один из удивительнейших законов микромира. Вот что значит — интуиция гения. И смелость его мышления. Но поди-ка разберись в таком механизме...
Бывает, вероятно, нередко, что одно сознание огромности задачи и невозможности разрешить ее существующими методами — само это сознание создает такие психологические трудности, которые мало кому удается преодолеть. И может быть, именно в сочетании способностей и отрешиться от существующей методики, от привычного подхода к проблеме, и преодолеть этот внутренний, мешающий свободе мысли психологический барьер, именно в таком сочетании научного и человеческого бесстрашия, в данном самому себе разрешении не сковывать мысль, воображение, не пугаться необычности, неправдоподобности родившихся идей — во всем этом и кроются истоки того, что принято называть интуицией ученого.
Описать с квантовых позиций, иными словами, с помощью аппарата квантовой механики поведение жидкости, то есть гигантского коллектива неупорядоченных частиц — такая задача, как говорят физики, в общем виде не разрешима.
Чтобы к ней подступиться, нужно было найти какой-то особый подход, угадать ведущий к цели путь, «увидеть» всю картину в особом освещении. Не в привычном, классическом, в каком мы все представляем себе жидкость как хаотическое собрание тесно сбитых в кучу молекул — словно отара овец в загоне. А в новом «квантово-механическом свете», при котором хаос перестает быть хаосом, потому что «квантовость» гелия II рождает некую упорядоченность совершенно особого рода. Ее, эту упорядоченность, надо было увидеть, угадать — и не только сам факт ее существования, но и природу ее, характер. И найти математический аппарат, который правильным образом опишет явление и позволит построить верную теорию.
Ландау увидел, угадал, нашел.
Это фундаментальное открытие представляло собой сумму или цепь последовательных, составляющих его открытий, идей, догадок, тонких математических расчетов и даже привлеченных Ландау экспериментальных данных — не только для того, чтобы эти последние объяснить и подтвердить ими теорию, но и для самого ее построения на отдельных этапах.
Египетский царь Птолемей, гласит легенда (а может, это было и на самом деле), попросил Эвклида обучить его геометрии не так, как тот учил всех, а более простым и легким способом.
— К геометрии нет особого пути даже для царей,—• ответил Эвклид.
Знакомство с теорией сверхтекучести гелия II, созданной Ландау, это не увеселительная прогулка. Это работа и мыслительного аппарата, и воображения. Чтобы ее проделать, требуется, естественно, затратить труд.
И еще для работы нужны инструменты. Некоторый набор инструментов читателю будет дан. А уж затрачивать ли время и труд — это зависит от его желания и интересов.
Идеи, на которых Ландау построил свою теорию, достаточно сложны и непривычны. Рассказ здесь будет идти только на уровне идей, далеко не доходя до их математического воплощения. Однако сложны и необычны не только идеи, но и понятия, лежащие в их основе. И даже сама терминология. Все это предстоит нам в какой-то мере освоить.
Когда стало очевидно, что законами классической физики нельзя объяснить поведение гелия II, в частности, его сверхтекучесть, теоретики обратились к квантовой механике.
И до Ландау были попытки объяснить с «квантовых позиций» сверхтекучесть гелия. Некоторая часть атомов гелия II находится в другом квантовом состоянии, чем остальные атомы жидкости,— таково было физическое содержание идеи, лежащей в основе этих попыток. По мысли авторов гипотезы, атомы, находящиеся в этом ином, с нулевой энергией, квантовом состоянии,— его называют «нормальным» или «основным» — должны двигаться через остальную жидкость без трения, то есть вести себя как «сверхтекучие».
Ландау доказал несостоятельность и внутреннюю противоречивость такой точки зрения. Во-первых, сказал он, разделение атомов гелия на два различных типа физически неправомерно: гелий II — единая жидкость, и все ее атомы неотличимо схожи друг с другом. А во-вторых, даже окажись там два таких разных типа атомов, сверхтекучесть все равно благодаря этому не появилась бы. Находящиеся в «нормальном состояний» атомы сталкивались бы с другими, возбужденными. При столкновениях происходит обмен импульсами. То есть возникает трение. Значит, вязкость есть, она не равняется нулю, даже не близка к нулю. А раз так, то нет и сверхтекучести.
Исходная позиция Ландау была прямо противоположной. Прежде всего следовало забыть о существовании отдельных атомов гелия, отвлечься от их индивидуального поведения. Гелий II во всем имеющемся объеме надлежало рассматривать как одну гигантскую молекулу (подобным же образом в некоторых задачах рассматривается кристалл). Или, еще точнее, как единый квантовомеханический организм.
К примеру, в обычном газе, подчиняющемся классическим законам, можно мысленно выделить какую-нибудь молекулу, проследить за ее движением, столкновениями с другими молекулами и описать этот процесс. Классический подход — объяснять свойства и поведение вещества на основании свойств и поведения частиц — долгое время был в физике единственным. Но если для газов он, как правило, приводит к верным результатам, то уже для обычной нормальной жидкости возникают затруднения, связанные с сильным взаимодействием ее частиц.
Что касается квантовой жидкости, гелия II, здесь подобный ход ошибочен, здесь подобное описание исключено принципиально. Потому что по законам квантовой механики все атомы такого объекта принципиально неразличимы. Если любые из них поменять местами, это никак не отразится на всем коллективе, никакой перемены ни в его состоянии, ни в его математическом описании не произойдет. Из-за этой принципиальной неразличимости атомов даже в мысленном эксперименте нельзя выделить один из них и проследить за его движением, поведением и т. д.
Кроме того, в жидкости, какой является гелий II, взаимодействие атомов настолько велико, что даже слова «состояние данного — или одного — атома» теряют смысл, потому что движение каждого атома так или иначе зависит от движения всех остальных атомов жидкости.
Отказавшись рассматривать гелий II как коллектив реальных атомов, Ландау «населил» его новыми частицами, которыми, как он доказал, и определяется состояние и поведение всей жидкости в целом. Это так называемые «квазичастицы» (что можно перевести, как «вроде-частицы», «почти-частицы») или «элементарные возбуждения» — чисто квантовые создания, порожденные принципами и законами квантовой механики.
«Волна и камень... не столь различны меж собой...» — сказано в «Евгении Онегине». Этот поэтический образ, напротив, призван подчеркнуть, сколь они различны. Противопоставление волны и частицы — как в науке, так и в жизни,— давнее и привычное.
И лишь рождение теории квантов перечеркнуло границу. Больше того, в квантовой механике они просто не существуют по отдельности — волна и частица; есть их некое диалектическое слияние. Квантовый объект — и волна и частица одновременно.
Сначала частицы совершили экспансию во владения волн. Первым квантовым объектом стал свет. Помимо присущих свету волновых свойств пришлось приписать ему и прерывистость — дискретность; другими словами, приписать свойства корпускулярные («корпускула»— значит «частица»); к тому принудила полная безвыходность, провал всех попыток объяснить ряд явлений с классических позиций.
В физике возникло новое понятие — «квант», «квант света». Потом семья квантов стала расти, и световой квант получил еще и собственное имя — фотон (по-гречески «фотос» — свет, а «он» — окончание названия частиц; вспомним, к примеру, электрон).
Световые кванты, или фотоны, естественно являются принадлежностью не одного лишь видимого света, а всех электромагнитных колебаний, независимо от длины волны (или от обратной ей величины — частоты).
Свет, который по законам классической физики есть колебания, электромагнитные волны, квантовая механика рассматривает как своеобразное движение световых квантов, фотонов. Электромагнитные колебания могут быть самой различной длины волны, что связано с их происхождением. С другой стороны, их поведение и, в частности, воздействие на человека связано с тем, в каком «обличье» они предстают, то есть тоже с их длиной волны (или частотой).
Чем больше частота, тем более мощным, сильным (при прочих равных условиях) является излучение — недаром говорят о «мягких» (с меньшей частотой) и «жестких» рентгеновских лучах.
Двигаясь от длинных волн к коротким, переходят из радиодиапазона в инфракрасный, затем в диапазон видимого света, оттуда в ультрафиолетовый, потом в область рентгеновских лучей; g-лучи образующиеся при распаде атомного ядра, это тоже поток фотонов.
Однако фотоны, «принадлежащие» различным частям электромагнитного спектра, отнюдь не одинаковы. Фотон — это сгусток или порция энергии. Чем дальше в сторону уменьшения длины волны — соответственно в. сторону больших частот, тем больше энергия кванта. А коэффициентом пропорциональности между энергией и частотой является знаменитая h — постоянная Планка, великое число (хотя абсолютная величина его крайне мала!), непременный знак принадлежности ко всему обширному «квантовому царству».
Это царство постоянная Планка будет завоевывать не один десяток лет — на подступах к квантовой механике, потом вместе с ее возникновением и развитием. Сама же h родилась в последний месяц последнего года прошлого века, когда Макс Планк предположил, что в определенных процессах свет излучается порциями, квантами. Было известно, что энергия излучения тем больше, чем больше частота. Планк сказал, что энергия пропорциональна частоте, а коэффициент пропорциональности и есть величина h.
Формулу Планка нельзя ниоткуда вывести, нельзя доказать. Она выражает некую данность — одну из особенностей жизни материи. Планк просто догадался об этой особенности, он угадал, какой должна быть формула. Как Ньютон угадал закон всемирного тяготения. Если прибавить слово гениально угадал, то все становится на свое место. В истории науки таких догадок насчитывается не так уж много. «Сегодня я сделал открытие такое же важное, какое сделал Ньютон»,— сказал Планк своему сыну. Вне семьи подобных слов он не говорил, вообще был крайне сдержан. А Эйнштейн сказал, что Планк посадил физикам в ухо большую блоху.
Итак, величина энергии кванта строго пропорциональна его частоте. К примеру, рентгеновский квант гораздо мощнее светового, а последний — сильнее инфракрасного. Таким образом, каждый квант, каждая частица соответствует строго определенной точке (ее можно обозначать или частотой или длиной волны) электромагнитного спектра.
Прошло четверть века с завоевания волн частицами. И волнам неожиданным образом удалось отыграться. Благодаря отважному шагу французского физика Луи де Бройля.
Де Бройль провозгласил — или предположил, можно называть этот его шаг как угодно,— что не только свет наряду с волновыми свойствами обладает еще и корпускулярными, но и каждая частица материи, начиная, например, с электрона, тоже должна иметь волновые свойства.
Подобно тому как Планк связал энергию светового кванта с его «волновой характеристикой» — частотой, де Бройль связал корпускулярные характеристики электрона с длиной его волны.
Все время помня о постулате Бора, гласящем, что электрон, вращающийся вокруг ядра по стационарной орбите, устойчив и не излучает энергии, отталкиваясь от этого постулата, де Бройль приписал электрону удивительный облик. Он стал представлять его в виде некоей волны, своеобразного колебательного процесса. При этом длина волны такого, ставшего «размазанным» по орбите электрона должна иметь строго определенную величину. На орбите должно уложиться целое число волн. Если условие выполнено, то орбита будет стационарной.
Дальнейшее было делом несложной математики. Из своего условия и постулата Бора де Бройль получил выражение для длины волны электрона: она оказалась пропорциональной постоянной Планка и обратно пропорциональной импульсу электрона, произведению его массы на скорость.
Очень скоро великая формула де Бройля перестала быть монополией электронов. Любая частица — протон, нейтрон, атом, молекула, атомное ядро, так называемые «элементарные частицы» рассматривались уже как частица-волна со своей, определяемой собственным импульсом, длиной волны λ.
(Два разъяснения. Первое. Нам уже встречалась буква «лямбда». Она означала фазовый переход между гелием I и гелием II. Но у длины волны права на эту букву куда более давние. Однако природа так богата различными явлениями и процессами, что алфавита просто не хватает. Поэтому довольно часто одна и та же буква обозначает совсем разные величины. Физики знают что к чему и не путаются. Второе — весьма существенное. Если дебройлевская длина волны много меньше размеров, интересующих нас в данном физическом процессе, то квантовые свойства по существу не проявляются и потому годится классическое описание. Но как только λ становится сравнимой с этими размерами, в права вступает квантовая механика.)
Квантовая механика создала специальный математический аппарат, при помощи которого она описывает поведение и взаимодействие таких волн-частиц. Однако зрительно представить себе этих «кентавров» микромира человек, как известно, не может. Потому, что ничего подобного в воспринимаемом зрительно мире нет. Напротив, мы легко можем представить себе мифических кентавров — хотя они на самом деле не существуют,— так как они рождены именно нашим воображением.
А вот микромир существует на самом деле. И на самом деле существует этот, как говорят физики, дуализм частица-волна. В одних процессах проявляются его волновые свойства, а в других корпускулярные. Но сам он, тот же электрон или фотон, не есть ни то ни другое, а нечто отличное и от волны и от частицы, нечто третье...
Фотон уже вполне акклиматизировался в нашем сознании и в нашей речи, а не только в работе и в словаре физиков, когда родился его младший брат — фонон. Он же звуковой квант, квант звука. Нужда в нем возникла тогда, когда стали вдумываться в картину некоторых процессов, идущих в твердом теле, например, теплопроводность, электрическое сопротивление металлов.
Квантовый подход, раскрывший сущность этих процессов, на сей раз начался с того, что физики придумали новый вид частиц и поселили частицы в кристалле. Каждая из этих квантовых частиц соответствовала определенному волновому процессу, идущему в кристалле. Как известно, атомы твердого тела совершают тепловые колебания около своих положений равновесия, например, узлов кристаллической решетки. Из-за тесной взаимозависимости атомов их колебания тоже взаимосвязаны.
Совокупность таких волн отождествили с совокупностью распространяющихся по решетке кристалла «частиц», каждая из которых обладает определенными энергией и импульсом. И по аналогии с фотонами назвали их квантами звука, фононами.
Конечно, мы не слышим этих звуковых колебаний, потому что их частоты сильно отличаются от воспринимаемого ухом звукового интервала. Они значительно выше. Более чем на три десятка октав надо уйти от середины клавиатуры, чтобы попасть в область тепловых колебаний. Но ведь и изо всех фотонов глаз воспринимает лишь те, которые принадлежат оптической части спектра. А имя «фотон» между тем носят все кванты, имеющие электромагнитную природу. То же самое и со звуковыми квантами, фононами. Независимо от частоты природа их всех одинакова. Все они распространяются со скоростью звука.
Фононы стали еще называть квазичастицами, что, как мы уже знаем, можно перевести, как «вроде-частицы», «почти-частицы». Потом семья квазичастиц стала расти. Но только за счет новых ее членов. Потому что старые, известные ранее квантовые объекты, такие, как электрон, протон и другие, называют по-прежнему частицами. Дело тут не только, да и не столько в привычке, в исторически сложившейся традиции. Можно сказать, что частицы — это индивидуалисты, живущие сами по себе или в небольшом сообществе. А квазичастицы принадлежат коллективу, макрообъекту (причем каждый вид «частиц» описывает свой определенный процесс).
К квазичастицам и обратился Ландау, создавая теорию сверхтекучести гелия II.
Ландау строит энергетический спектр гелия II
Итак, первый шаг, первая идея Ландау: огромное количество движений и сложных взаимодействий всех атомов заключенного в данном объеме жидкого гелия заменяется небольшим количеством и притом довольно элементарных типов движений квазичастиц.
Пусть в действительности квазичастиц как реального объекта, который можно «пощупать» хоть мысленно, нет. Но ведь есть некоторые возбужденные состояния всей жидкости. Если энергия этих возбуждений мала, то их можно рассматривать как совокупность элементарных возбуждений. То есть как совокупность квазичастиц, И не просто совокупность. Так как гелий II существует при предельно низких температурах, то элементарных возбуждений, квазичастиц, в нем мало. И слово «совокупность» можно с полным правом заменить словами «газ квазичастиц». Причем в таком газе взаимодействие частиц будет крайне слабым. Что существенно облегчает и упрощает задачу.
Но квазичастицы отличаются от «нормальных» частиц не только тем, что их нельзя «пощупать». Есть и другие особенности, в высшей степени важные, о которых необходимо помнить, строя теорию. Больше того, которые во многом именно и определяют теорию.
Недаром их называют «квазичастицы» в отличие от таких частиц, например, как электрон, протон, нейтрон, атом... Тут, повторяем, дело не в одной только сложившейся традиции. Но и в весьма существенном обстоятельстве. Если у нас есть замкнутый объем, то сколько в нем было частиц, скажем, атомов, столько и останется — независимо, будем ли мы, например, нагревать вещество или охлаждать его. Не то с квазичастицами. Газ квазичастиц ведет себя совсем иначе, чем обычный газ, где число частиц в замкнутом объеме постоянно, а с температурой меняется лишь их энергия. Здесь же повышение температуры соответствует появлению новых квазичастиц. При нуле градусов их нет совсем, а чем выше температура гелия II, тем их становится больше.
Но и это еще не все. Известно, например, что каждый движущийся объект, волна ли или частица, несет с собой определенную энергию и определенный импульс. В этом квазичастицы не являются исключением. Наоборот. Именно зависимость энергии от импульса стала определяющей формой описания их «жизни», их поведения.
Однако сходство тут же и кончается.
Энергия квазичастицы может зависеть от ее импульса самым причудливым образом. А между тем именно эта зависимость имеет первостепенную важность. Вспомним, что каждая квазичастица соответствует определенному элементарному возбуждению, то есть определенному типу движения всей жидкости. Значит, и характер связи между энергией и импульсом квазичастицы отражает характер данного типа движения тоже всей жидкости. Эта имеющая чисто квантовую природу зависимость называется энергетическим спектром.
Если вернуться к истокам квантовой теории, то станет понятным происхождение такого названия. Действительно, в фундаменте новой физики лежало представление о том, что в разных процессах как поглощение, так и испускание энергии происходит строго заданными порциями, квантами. Отсюда родились понятия и о квантовании энергии, и о спектре разрешенных энергетических уровней.
Итак, энергетический спектр, другими словами, совокупность «дозволенных» значений энергии есть главная характеристика состояния системы, подчиняющейся законам квантовой механики.
Но каким образом найти энергетический спектр гелия II? Ландау понимал, что прежде всего надо было сообразить, какие квазичастицы возбуждаются и присутствуют в гелии и затем отыскать форму зависимости энергии от импульса для каждого вида квазичастиц.
Гелий становится квантовой жидкостью, когда по мере понижения температуры и уменьшения теплового движения атомов дебройлевская длина волны, соответствующая этим тепловым колебаниям, вырастает настолько, что делается сравнимой с расстояниями между атомами. Такое происходит при температуре около 2К.
Ландау начал строить свой энергетический спектр, спустившись еще ниже по шкале температур, фактически — с абсолютного нуля. Вблизи нуля тепловые колебания еще гораздо меньше. То есть дебройлевская волна, соответствующая возбужденной при этой температуре квазичастице, становится уже много больше, чем межатомные расстояния. А по законам квантовой механики большая длина волны означает малый импульс — это обратные величины — квазичастицы.
Ландау предположил, что эти длинноволновые — с малым импульсом — квазичастицы, существующие в гелии II при самых низких температурах, есть не что иное, как фононы — звуковые кванты. Они подобны тем звуковым квантам, которые возбуждаются в кристалле вследствие малых тепловых колебаний, совершаемых атомами кристалла вокруг своих положений равновесия. Более того, Ландау представил себе — а потом и утвердился в своем мнении,— что в гелии II нет и не может быть никаких других элементарных возбуждений очень малой энергии, кроме как фононов.
И оказалось, что догадка Ландау ариадниной нитью приводит к объяснению сверхтекучести гелия. Это следует из самой картины энергетического спектра, такого, каким нарисовал его Ландау.
Самым приближенным образом и чисто словесно, то есть отвлекаясь от строгого рассмотрения, а также ото всех расчетов и формул и следуя лишь за ходом мысли Ландау, можно так объяснить себе, почему гелий непременно должен быть сверхтекучим.
Прежде всего — известен закон зависимости энергии фонона от его импульса: энергия просто пропорциональна импульсу. Таким образом, начальная часть кривой энергетического спектра — это прямая линия, выходящая из начала координат.
Нарисуйте такую прямую и вы убедитесь, что угол между ней и осью абсцисс виден, так сказать, невооруженным глазом. Но ведь этот угол и есть отношение энергии квазичастицы к ее импульсу. То есть никогда, как бы близко мы не подходили к нулю, к началу координат, вообще ни при каких обстоятельствах отношение энергии к импульсу у фонона не может стать меньше некоторой минимальной величины. Запомним это и спустимся к абсолютному нулю.
При абсолютном нуле квазичастицы в гелии отсутствуют — весь он находится в нормальном, невозбужденном состоянии. И даже одна-единственная квазичастица может возбудиться в нем лишь при соблюдении определенных условий. Каких? В этом-то вся соль.
Предположим, что мы наблюдаем течение гелия в капилляре. Его замедление — что есть в данном случае синоним вязкости, то есть трения жидкости о стенки капилляра или трения внутри самой жидкости,— означало бы, что уменьшилась кинетическая энергия движения жидкости.
На что же может расходоваться энергия движения? Именно возбуждение, возникновение квазичастицы нуждается в некоторой порции энергии.
И тут Ландау нашел одну фундаментальную зависимость: оказывается, если скорость движения гелия меньше некоторой определенной величины, то его энергии и импульса не хватит на то, чтобы возбудить фонон с необходимым (как следует из начального участка кривой энергетического спектра) отношением энергии к импульсу.
А раз энергии не на что тратиться, значит, она вся сохранится. Ведь, как известно, никаких других «потребителей энергии», кроме квазичастиц, в гелии II нет. Не существует там другого аналога трению, торможению. Поэтому если гелий станет двигаться достаточно медленно, то помех ему не будет никаких. Ничто его не затормозит. А это и означает сверхтекучесть.
Шел очередной теоретический семинар. Ландау рассказывал об энергетическом спектре гелия II. Показал линейную зависимость энергии от импульса в начальной части спектра, где царствуют фононы — звуковые кванты, соответствующие безвихревым — их еще называют потенциальными — продольным колебаниям жидкости. Объяснил, как начальная, фононная часть спектра подтверждает обязательность сверхтекучести жидкого гелия II.
Но, как известно, в жидкости бывают не только потенциальные, но и вихревые движения. Поэтому, сказал Ландау, кроме фононов в квантовой жидкости возможны элементарные возбуждения и другой природы — вихревые. Они тоже относятся к поведению жидкости как целого и тоже должны квантоваться; то есть энергия их имеет строго определенные, а не любые, какие угодно значения.
— Их можно назвать ротонами,— предложил академик Тамм, присутствовавший на том семинаре.
Так с легкой руки Игоря Евгеньевича Тамма в квантовой физике получил собственное имя еще один тип квазичастиц.
У ротонов зависимость энергии от импульса совсем не похожа на фононную. Поэтому кривая их энергетического спектра принимает сложную форму.
Сначала Ландау предположил, что и фононы и ротоны имеют свой собственный энергетический спектр; и общий, суммарный спектр гелия II состоит из двух ветвей. Потом это положение было им пересмотрено.
Крайне важным стал теоретический вывод Ландау, что не только фононы, но и ротоны не могут возбуждаться при малых скоростях течения жидкости. Значит, хотя в гелии. II существует два вида квазичастиц, жидкость при определенных условиях все равно останется сверхтекучей. Не на «сто процентов», как при абсолютном нуле, но все же достаточно ощутимо.
«Ландау угадал ход кривой энергетического спектра. Установление вида энергетического спектра жидкого гелия, исходя из одних только общих соображений и косвенных экспериментальных данных — триумф научной интуиции и силы научного воображения».
Так говорят физики-теоретики.
Что скрывается за этими словами?
Обычно бывает так. Ученый высокой квалификации, эрудированный, занимающийся серьезной современной наукой, находит верные пути ее дальнейшего продвижения, нащупывает правильные выходы из трудностей. Это естественный процесс для ученого, который на своем месте. И процесс видимый, понятный его коллегам.
Но бывает — гораздо реже — «по Маяковскому»: «А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб?» И тогда говорят об интуиции, об озарении, о «шестом чувстве». Открытие Ландау тоже в большой степени обязано «шестому чувству». Вдруг угадать как, каким способом построить энергетический спектр. Где привлечь на помощь теорию, а в каком месте воспользоваться экспериментальными данными — и именно этими, а не другими.
Одних теоретических соображений и расчетов для того, чтобы построить весь энергетический спектр гелия II, чтобы получить такой необычный ход кривой спектра, явно недоставало. Но в то же время это была теоретическая кривая. Ни по каким чисто экспериментальным данным нельзя было ее построить.
Значит, оставалось найти — или пытаться искать — некое нужное сочетание того и другого: сообразить, что можно взять у теории и что у эксперимента, прибегнуть к взаимопомощи двух этих орудий физического исследования. Но каким образом это сделать?
Что было в распоряжении Ландау? Прежде всего — набор парадоксов, которые неизвестно как разгадать и объяснить. Еще — ряд цифр, в основном относящихся к тепловым характеристикам гелия II, результаты измерений, которым он мог доверять. И еще — некоторые общие соображения о том, что вероятно и допустимо, а что заведомо исключено.
Но было и главное — то особое проникновение в глубины физических процессов, особое видение и угадывание их, которое называется интуицией ученого.
Ландау привлек измерения, в основном тепловых, термодинамических величин. Он внимательно изучил все цифры, полученные в опытах Кеезомов, Капицы и других экспериментаторов. И ясно увидел, что следует взять себе в помощь. Больше того. Своим «внутренним зрением» — изощренным мышлением теоретика — он «увидел», что согласие между теорией и опытом наступает только при этой странной, придуманной им форме энергетического спектра.
Пожалуй, невозможно найти единственное слово, которое отразило бы механизм открытия. «Нашел, построил, угадал, вычислил»,— каждое из этих действий внесло свою лепту в рождение энергетического спектра. Вот она, тайна творчества, которую не только трудно раскрыть другим, но и самому автору открытия она тоже не вполне, не до конца понятна.
Такие озарения в науке случаются. Причем угадываются именно фундаментальные решающие закономерности. «Эйнштейн понял, что электрические сигналы не могут распространяться быстрее света. Он догадался, что это общий принцип. Эйнштейн догадался, что это общее свойство природы, в том числе гравитации»,— говорил Фейнман. И еще: «Дирак открыл правильные законы релятивистской квантовой механики, просто угадав уравнение. Угадывание уравнения, по-видимому, очень хороший способ открывать новые законы».
Однажды Моцарта спросили, как он сочиняет музыку. Он ответил: «Я иногда, сочиняя в уме музыку, разгораюсь все более и более и, наконец, дохожу до такого состояния, когда мне чудится, что я слышу всю симфонию от начала до конца сразу, одновременно, в один миг!.. Эти минуты — самые счастливые в моей жизни».
Бытует мнение, впрочем вполне справедливое и обоснованное, что именно логика была наиболее сильной составляющей необычайного мыслительного аппарата Ландау, что творчество его было в гораздо большей степени логическим, чем эмоциональным; непохоже, чтобы он «разгорался». Между тем в самое замечательное, вероятно, из его открытий так властно вторглась интуиция.
Как, каким образом сочетать то, что выглядит столь противоположным? Думается, что лучше всего несочетаемое примирил Сент-Экзюпери такими лукаво-мудрыми словами:
«Теоретик верит в логику. Он убежден, что пренебрегает мечтой, интуицией и поэзией. Он не замечает того, что эти три феи нарядились в маскарадные костюмы, чтобы соблазнить его, как пятнадцатилетнего влюбленного. Он не ведает, что им он обязан своими лучшими открытиями. Они явились ему в облике «рабочей гипотезы», «произвольных условий», «аналогии». Как мог он, теоретик, подозревать, что, прислушиваясь к ним, он обманывает суровую логику и наслаждается пением муз!.. Разумеется, я восхищаюсь Наукой. Но я восхищаюсь и Мудростью!»
Будто специально написано о Ландау и этом его открытии...
Творчество. Научное ли, художественное... Только глядя на сцену, сидя в концертном зале, присутствуем мы, зрители, при самом творческом процессе (к тому же это творчество исполнителей; композитор, драматург, режиссер трудились раньше и не на наших глазах). А чаще всего мы пользуемся уже созревшими плодами творчества — смотрим ли на картину, читаем ли книгу или статью.
Но все же, хотя бы в принципе, какой-то вид творчества можно, и относительно просто, увидеть со стороны. Иное дело, например, творчество математика или физика-теоретика.
Но как ни удивительно, творчество Ландау в каких-то своих проявлениях бывало видимым для его окружения. Причем даже на близких ему людей, друзей, учеников, соавторов, такой вот «творящий» Ландау производил впечатление чуда. Иногда было просто видно, как он думает. К примеру, задавали ему какой-нибудь вопрос — или сложный, или из новой для него области,— и все могли наблюдать, как, по образному выражению А. И. Китайгородского, Ландау «отправляется в полет». Останавливались глаза. Включалась и начинала работать необыкновенная эта счетно-решающая машина. Обычно невидимый процесс, для всех закрытый — процесс думания,— у него становился зримым, Вообще же работа теоретика — никак не «зрелищное мероприятие». Это не то, что стоять за спиной художника и видеть, как мазки ложатся на полотно и на твоих глазах возникает, творится картина. Или присутствовать при опытах экспериментатора, которые можно описать, и часто — достаточно образно. Например, как возникают, изламываются, мечутся кривые на экране осциллографа. Или вспыхнет спектр. Или прорежет воздух искусственная молния — искра от высоковольтного генератора. Или зажжется плазма в каком-нибудь прообразе будущего термоядерного реактора... Множество эффектных картин можно наблюдать в физических лабораториях, находясь рядом с экспериментатором.
И ничего — у теоретика. Никаких эффектов, никаких сцен, никаких красот. Доска, мел, бумага. Потому даже лаборатории нет у теоретика. Ни к чему она. И чаще всего не только содержание теоретической работы, ее значение, но и всю впечатляющую красоту ее могут оценить лишь коллеги-теоретики.
Но бывает, в общих чертах, в контурах она может явить свою красоту, необычность и «простым смертным» — захоти они сделать некоторое усилие, приложить немного энергии.
Тут красота не во внешних эффектах. А во внутренней идее, часто чудом появившейся, поражающей своей новизной и необычайностью. И в движении мысли, в логике, в удивительных ассоциациях. Ведь что может быть красивей человеческой мысли, когда она нова, впервые высказана, в чем-то парадоксальна, но вместе с тем поражает своей правильностью, точностью, неопровержимой убедительностью.
Так, на смену внешним зрительным впечатлениям приходит чисто интеллектуальная радость, которая по силе своей может стать весьма ощутимой. Недаром Пушкин сказал, что следовать за мыслью великого человека — наука самая занимательная.
Удивительный характер энергетического спектра стал и отражением и подтверждением удивительного характера квантовой жидкости гелия II, прежде всего сверхтекучести.
Но теоретическое доказательство неизбежно рождало новый вопрос. Каков физический механизм странного процесса? Что происходит не на графике, не согласно формулам, а в реальном жидком гелии?
Следующим этапом теории Ландау был ответ именно на этот вопрос. Причем Ландау вовсе не стремился — как к главной цели — объяснить многочисленные загадки или совокупность всех «чудачеств» жидкого гелия. Он строил последовательную теорию. А уж разгадка парадоксов стала следствием ее. Конечно, следствием необходимым, да и в высшей степени приятным. Какого ученого не обрадует блестящее разрешение, казалось бы, неразрешимых сложностей и веские доказательства справедливости своей концепции?
Чтобы стал понятен дальнейший ход мысли Ландау, вспомним, как озадачили физиков странные результаты измерения вязкости гелия II. И не только чрезвычайно малая величина ее, которая позволила Капице назвать гелий сверхтекучим. Но и удивительный факт, когда при другом способе измерения, например, при вращении в гелии диска, вязкость жидкости оказывалась вполне ощутимой. Это был единственный известный физикам случай, когда оба способа измерений давали не только не совпадающие, а совершенно различные, отличающиеся на порядки величин цифры.
Теперь Ландау решил теоретически рассмотреть и рассчитать поведение гелия при его вращении в сосуде.
Итак, Ландау, чтобы нарисовать — или увидеть — для начала в математических символах картину поведения квантовой жидкости гелия II, привел его мысленно во вращение. И стал вычислять все положенные для вращающейся системы величины. Рассматривал он тот самый газ элементарных возбуждений, квазичастиц — фононов и ротонов,— которым характеризуется поведение гелия II при температурах несколько больших абсолютного нуля. При таком подходе, мы знаем, энергию гелия можно считать равной сумме энергий всех квазичастиц. Подобным образом и любую другую физическую величину Ландау полагал равной сумме величин, относящихся к отдельной квазичастице.
Первый результат, который получил Ландау из своего рассмотрения, представился ему достаточно естественным: во вращающемся сосуде газ квазичастиц как бы увлекается стенками сосуда, вращается вместе с ним.
Еще один расчет делает Ландау — и тут оказывается, что две величины (они называются момент количества движения и момент инерции), которые обычно дружно идут вместе и одинаковым образом меняются при изменении внешних условий, вдруг решительным образом разошлись. Это могло означать только одно: когда вращается сосуд, с ним вместе вращается не вся масса жидкости в этом сосуде, какая-то часть ее не вовлекается во вращение.
Открытая Ландау особенность поведения гелия II была столь необычна и удивительна — даже и для автора открытия,— что он счел необходимым подробно рассказать о том, как он представляет себе физическую картину «жизни» квантовой жидкости.
«Мы приходим, таким образом, к фундаментальному результату,— пишет Ландау,— что при движении стенок сосуда только часть массы жидкого гелия увлекается им, а другая часть как бы остается неподвижной. Поэтому можно наглядно рассматривать жидкий гелий так, как если бы он представлял смесь двух жидкостей — одной сверхтекучей, не обладающей вязкостью и не увлекающейся стенками сосуда, и другой — нормальной, «зацепляющейся» при движении о стенки и ведущей себя как нормальная жидкость. При этом весьма существенно, что между обеими этими движущимися друг через друга жидкостями «нет трения», т. е. не происходит передачи импульса от одной из них к другой.
Подчеркнем, что рассмотрение гелия как «смеси» двух жидкостей является не больше чем способом выражаться, способом, удобным для описания явлений, происходящих в гелии II. Как и всякое описание квантовых явлений в классических терминах, оно не является вполне адекватным. В действительности надо говорить, что в квантовой жидкости, каковой является гелий II, могут существовать одновременно два движения, каждое из которых связано со своей «эффективной массой» (так, что сумма обеих этих масс равна полной истинной массе жидкости). Одно из этих движений «нормально», то есть обладает теми же свойствами, как и движение обычной жидкости; другое же «сверхтекучее». Оба эти движения происходят без передачи импульса от одного к другому. Особенно подчеркиваем, что здесь нет никакого разделения реальных частиц жидкости на «сверхтекучие» и «нормальные». В определенном смысле можно говорить о «сверхтекучей» и «нормальной» массах жидкости как о массах, связанных с обоими одновременно возможными движениями, но это отнюдь не означает возможности реального разделения жидкости на две части.
Имея в виду все эти оговорки относительно истинного характера происходящих в гелии II явлений, удобно все же пользоваться терминами «сверхтекучая» и «нормальная» жидкости как удобным способом краткого описания этих явлений. В дальнейшем мы и будем так поступать».
Значит, на самом деле никакой смеси жидкостей нет. Нет двух жидкостей. Нет разделения массы гелия на две части. Есть только одна, однородная во всех своих частях жидкость. И она, вся целиком, вот так странно себя ведет.
Может ли, скажем, человек — ну или паровоз — одновременно стоять и двигаться? Ясно, не может. А гелий II может. Именно одновременно стоять и двигаться, стоять на месте и вращаться. ,
Ландау все время отдает себе отчет, какой ошеломляющей своим неправдоподобием должна представляться эта картина. И сам глядит на нее не без удивления. А может, именно с радостным удивлением истинного естествоиспытателя, которому судьба подарила удачу встретиться с новым явлением природы, и который это явление не проглядел и не испугался заметить. А напротив, углубился в него и сумел в конце концов раскрыть его секрет.
Но все равно удивление осталось. И Ландау хочет разделить его со своими слушателями:
— Из существования таких двух масс гелия — массы нормальной и остальной массы, которая получила название массы сверхтекучей, следует другое, не менее на первый взгляд чудовищное утверждение, что гелий способен одновременно к двум движениям. Имея две массы в одном и том же месте, в одном и том же объеме, гелий может совершать одновременно два различных движения, одновременно в одной точке жидкости.
Квантовый эффект — мы знаем, что именно таким было объяснение Ландау. Эффект совсем новый, не похожий на другие. А если и похожий, то лишь своей непохожестью на «нормальный мир».
Коль скоро мы попали во владения квантовой механики, то слова «непредставимо», «невозможно представить», «противоречит нашим чувствам», «не укладывается в наши понятия» и тому подобные будут нам сопутствовать постоянно. И те, кто имеет дело с новой физикой, с такой ситуацией свыклись. Но и то... Рассказывают, что во время дискуссии в Копенгагене кто-то из физиков заметил, что при одной мысли об этих проблемах у него начинает кружиться голова. На что Бор тут же отреагировал:
— Если кто-нибудь скажет, что можно думать о проблемах квантовой механики без головокружения, то это лишь показывает, что он ровно ничего в них не понял.
Однако физики себе уже твердо уяснили, что всякое словесное описание квантовых объектов и квантового поведения заведомо неточно, или, говоря профессиональным языком, неадекватно. Просто потому, что слова родились в привычном нам мире, и в свою очередь, ассоциируются с привычными образами.
Точны, адекватны только формулы, одно лишь математическое описание при помощи аппарата квантовой механики, специально найденного и созданного именно для того, чтобы описывать поведение квантовых объектов.
«Физику нельзя перевести ни на какой другой язык,— говорил Ричард Фейнман.— И если вы хотите узнать Природу, оценить ее красоту, то нужно понимать язык, на котором она разговаривает».
А Ландау на ту же тему охотно цитировал афоризм Козьмы Пруткова: «Не зная законов языка ирокезского, можешь ли ты делать такое суждение по сему предмету, которое бы не было неосновательно и глупо?» (Мы с вами теперь слегка познакомились с «ирокезским языком» квантовой механики; конечно, не настолько, чтобы «делать суждения по сему предмету», но чтобы в какой-то степени его понимать.)
Таким образом, описывая явления квантового мира не формулами, а одними лишь словами, мы все время изображаем то, чего, строго говоря, нет в действительности. Потому что для того, что есть, у нас нет подходящих слов. Нет и не может быть.
Все это в полной мере относится и к «раздвоенной личности» жидкого гелия. Нарисованное пером Ландау удивительное создание — продукт человеческой мысли. На самом деле гелий II не таков. Однако вовсе не потому, что придумано нечто слишком сложное и невероятное, такое, что природе не под силу и создать. Совсем наоборот. Потому что модель Ландау есть упрощенное изображение — применительно к нашим представлениям, способу мышления, классическому видению и языку — подлинного феномена, квантовой жидкости гелия II.
Естественно поэтому, что акцент в своей теории Ландау сделал на строгом математическом описании и самого объекта и его поведения, описании уже не упрощенном, а точном. Словесной же обрисовке гелия и всех происходящих с ним событий отведена роль (тоже немаловажная!) удобной формы, облегчающей изложение новой для физики ситуации. О чем сам Ландау не уставал напоминать.
Тут уместно подчеркнуть одно весьма существенное обстоятельство. Нельзя забывать, что гелий, «спустившись» ниже λ-точки, из обычной жидкости превращается в жидкость необычную, обретающую два обличия и живущую одновременно как бы в двух разных, ни в чем не схожих, не совпадающих мирах. С одной стороны, он продолжает оставаться видимой невооруженным глазом жидкостью (забудем на время о странностях ее поведения). А с другой — это квантовый объект, подчиняющийся законам квантовой механики. Это сочетание само по себе уже непривычно, потому что все привыкли, что законам квантовой механики подчиняются лишь представители микромира.
Велика роль, так сказать, «эффекта привыкания». Многократно повторяемые, слышимые слова, высказывания, понятия, идеи в конце концов утрачивают свою необычность, парадоксальность — даже если поначалу были наделены всем этим сверх меры.
Долгое время физики, а затем и все остальные, кто интересовался, как устроена природа, привыкали и постепенно привыкли к тому, что свет — это не только волны, но одновременно и поток частиц, квантов. И что атомы, электроны — не мельчайшие шарики. Все они, подобно оборотням, в определенных процессах, в том числе и в экспериментах, поставленных в лабораториях, то ведут себя как волны, то представляются отдельными дискретными частицами. И недавно обосновавшиеся в физике квазичастицы заведомо, по самому определению, есть не частицы, а некие возбуждения, движения всего кристалла или всей жидкости в целом, а ведут себя они во многом как подлинные элементарные частицы.
На самом же деле, все они есть нечто, сочетающее те и другие свойства, что на наш человеческий взгляд ни в какой привычный образ материализоваться не может. А потому и представить себе такое мы тоже не можем. И остается лишь повторять восхищенные слова ярого противника высоких слов Ландау об «остром ощущении силы человеческого гения, величайшим триумфом которого является то, что человек способен понять вещи, которые он уже не в силах вообразить».
Но все это относится, повторяем, к дуализму частица — волна, ставшему уже привычным не только для физиков, но и для нынешних школьников и всех тех, кто любит читать популярную литературу о науке. Или — к теории относительности, которой в первую очередь и адресованы только что приведенные слова Ландау (и о ней тоже написано множество популярных книг и статей) . А кроме того, в одном случае речь идет о столь маленьких объектах, что их никаким образом нельзя увидеть, а можно наблюдать лишь следы их, так сказать, «жизнедеятельности», например, треки в камере Вильсона или световые вспышки — сцинтилляции. А в другом случае, наоборот,— о беспредельных расстояниях, о пространстве Вселенной, которое простирается за пределы видимости сильнейших телескопов.
Вот это сочетание — непредставимо и в то же время невидимо — облегчает психологическое приятие новых и весьма сложных идей. Потому что гораздо легче примириться с тем, что мы не можем себе представить того, что не видим, что вообще нельзя увидеть, чем глядеть на жирафа и твердо знать, что «такое животное не существует».
А Ландау демонстрирует нам как раз подобные чудеса.
В дьюар наливают гелий, охлаждают его ниже 2,19К, превращая таким образом из обычной жидкости в гелий II. С непривычки, правда, трудно разглядеть его. Жидкость совершенно прозрачна, спокойна, да и смотровая щель в стенках сосудов невелика (чтобы гелий II получал как можно меньше тепла, был как можно сильней изолирован от внешней среды). Но привыкнув, его уже можно увидеть. Да есть и другие способы убедиться, что в дьюар налита жидкость.
Показывая на дьюар, Ландау утверждает — а затем , и доказывает,— что этот видимый невооруженным глазом — не микро — макрообъект по своей физической природе есть нечто совершенно отличное от всех других жидкостей, некий монстр.
Описать его поведение можно только квантовыми законами, квантовыми формулами. Однако опять же не обычным способом. На этот раз формулы квантовой механики будут описывать поведение не микрочастиц, не атомов, из которых состоит гелий II, а макрообъект целиком, то есть всю массу видимого нами гелия.
А эта масса есть жидкость, одновременно нормальная и анормальная. Не то чтобы часть атомов ее нормальна и ведет себя обычным образом, например, переносит тепло, обладает вязкостью и тому подобное, а другая, «ненормальная», упорно отказывается исполнять эти присущие макрообъекту функции.
Нет, весь гелий — это одновременно и нормальная, и сверхтекучая компоненты. Весь гелий одновременно участвует в двух движениях, нормальном и сверхтекучем. И если при вращении сосуда вместе с ним вращается нормальная компонента, а сверхтекучая неподвижна, то это означает, что весь гелий одновременно и двигается, и неподвижен.
Думая, как бы лучше описать такое движение, можно найти еще один странный, опять же непредставимый процесс или образ — движение жидкости сквозь самое себя. Безо всякого трения, без сопротивления, без малейших помех происходит это относительное движение. При этом вся жидкость может стоять на месте, быть неподвижной. Или, как видно во время опытов, участвовать во вращении, бить струей из сосуда, протекать сквозь щель. Мы видим, что так ведет себя вся жидкость целиком. Но на самом деле это неверно. На самом деле в ней все время происходят эти два одновременных и различных движения. И из ряда процессов, которые можно наблюдать в экспериментах и измерять приборами, мы убеждаемся, что такое парадоксальное явление и вправду существует. Больше того, только лишь оно одно может объяснить все те странные результаты, которые наблюдались при опытах и так изумили, озадачили экспериментаторов, того же Капицу.
Итак, сверхтекучая компонента — или же сверхтекучая масса — соответствует движению жидкости без трения, без какого-либо сопротивления. Нормальная же — нормальному течению с вполне ощутимой, измеряемой вязкостью. А вязкость возникает тогда, когда в гелии появляются квазичастицы.
Иными словами, сверхтекучая компонента — это гелий без квазичастиц, а нормальная — как раз совокупность фононов и ротонов.
А сейчас пройдемся по интервалу температур от абсолютного нуля до λ-точки, в которой гелий превращается из квантовой жидкости в обыкновенную. Мы ведь знаем, что в отличие от обыкновенных частиц число квазичастиц не постоянно, а меняется в зависимости от температуры. Посмотрим, как оно будет меняться и как это отразится на поведении гелия.
При нуле градусов квазичастиц нет вовсе, значит, гелий весь — одна лишь сверхтекучая масса. По мере нагревания начинают появляться элементарные возбуждения — возникают квазичастицы, сперва фононы, а потом и ротоны. То есть нормальная компонента — это совокупность движущихся в жидкости фононов и ротонов.
Хотя — об этом надо помнить все время — никакого действительного разделения жидкости на компоненты нет, каждое из обоих состояний относится ко всей жидкости в целом, одновременно присутствует в ней, для теоретического описания удобнее говорить о двух массах или о двух плотностях ее — нормальной и сверхтекучей.
Тогда можно сказать, что при нуле градусов отношение массы (или плотности) нормальной компоненты ко всей массе равно нулю, а в l-точке оно равно единице.
Одна и та же жидкость, однородная во всех частях — и такая странная, невиданная «перекачка» массы из одной компоненты в другую!
Вот как писал об этом Ландау в первой своей работе:
«Важнейшим параметром, определяющим свойства гелия при каждой данной температуре, является отношение между массами сверхтекучей и нормальной частей жидкости. Введем плотность ρn нормальной жидкости и плотность ρs сверхтекучей; сумма ρs+ρn=ρ есть полная истинная плотность жидкости. (Напомним, что плотность в физике обычно обозначается греческой буквой «ро» — ρ.— А. Л.)
При абсолютном нуле отношение ρn/ρ равно нулю. По мере повышения температуры оно растет, пока не сделается равным единице, после чего, конечно, будет оставаться постоянным. Температура, при которой ρn/ρ обратится в единицу, и представляет собой точку перехода гелия II в гелий I. Таким образом, фазовый переход в жидком гелии связан с исчезновением сверхтекучей части жидкости. Это исчезновение происходит постепенно, т. е. ρn/ρ обращается в единицу непрерывным образом, без скачка. Поэтому переход является фазовым переходом второго рода, т. е. λ-точкой (не сопровождается выделением или поглощением скрытой теплоты). Наличие же скачка теплоемкости является, как известно, непосредственным термодинамическим следствием фазового перехода второго рода».
До чего же приятно читать доподлинные слова автора такого открытия и теперь уже понимать их содержание. Потому что сказаны они на языке, переставшем быть совсем чужим, незнакомым.
Трудно исчерпать все неожиданности, которыми гелий одаривает физиков. Но, пожалуй, все-таки, самое удивительное — как гелий связан с теплом.
— Я напомню,— рассказывал Ландау,— очень старую историю о некой теории, которая в свое время фигурировала в физике. В физике некогда фигурировала такая, разумеется, никогда не существовавшая жидкость, как теплород. Считалось, что наряду с обыкновенной жидкостью, существовала еще тепловая жидкость, что если тело является теплым, то это значит, что в нем больше теплорода. Если меньше теплорода, значит, оно соответственно становится более холодным, то есть теплород — жидкость, специально придуманная для объяснения этих явлений.
Эксперименты доказали,— продолжал Ландау,— что никакой тепловой жидкости не существует, а тепло — это есть движение частиц жидкости. Оказывается, что в гелии сохранилось кое-что от теплорода, конечно, в очень своеобразном смысле.
...Любопытно, как на каком-то этапе развития науки давние заблуждения или ложные идеи трансформируются в истины и законы физического мира. Такие метаморфозы бывали не раз.
Что это? Случайные совпадения? Или неясные, диковинным образом преображенные предчувствия? Кто знает...
Философский камень, с помощью которого пытались превратить в золото металлы и другие вещества,— основа лженауки алхимии. Но в конце прошлого века открыли радиоактивный распад элементов. А в тридцатых годах нынешнего научились, бомбардируя атомные ядра, вызывать искусственную радиоактивность. Ныне превращение элементов — научный быт.
Настала очередь теплорода. И исторически он вышел на арену позже остальных заблуждений — лишь в конце XVIII века, и «трансформация» его произошла тоже совсем недавно — в созданной Ландау теории квантовой жидкости.
Теплород — это мифическая невесомая жидкость, нечто, существующее отдельно от данного тела или данной жидкости, некая субстанция, которую можно привнести в реальную жидкость или от нее отнять. И тем самым в первом случае сделать реальную жидкость более горячей, а во втором — более холодной, чем она была сначала.
Этот образ и натолкнул Ландау на мысль при объяснении странной связи тепла с гелием II привести аналогию с теплородом. Разумеется, сделал он это лишь в своем популярном рассказе, а не в научной статье. Как, впрочем, и все примеры — с философским камнем, вечным двигателем, флогистоном и другие — приводятся тоже только в изложении историческом или научно-популярном.
Но аналогия эта красивая. Ведь сам гелий II есть некое двуединство разных — по всем своим характеристикам—жидкостей: нормальной и. сверхтекучей. Мы уже знаем, как резко они разошлись в своих «взаимоотношениях» с вязкостью. Теперь предстоит увидеть, что также повели они себя и в отношениях с теплом.
Кому же или чему достанется роль теплорода? Эту роль сыграет газ квазичастиц, фононов и ротонов.
Ведь именно они, квазичастицы, связаны с энергией, с теплотой. И внешне, если не вдумываться в физическую сущность явления, то подобно теплороду с температурой впрямую связано количество квазичастиц, то есть нормальная масса гелия. В отличие от сверхтекучей, которая с теплом не имеет никакого дела.
Что такое один градус для обычной жидкости? Ровным счетом ничего (если, конечно, это не температура какого-либо превращения). Одним градусом больше, одним меньше — разница почти неуловима.
А здесь не то что градус — их всего-то отпущено гелию II чуть больше двух,— каждая десятая, сотая, тысячная градуса меняет саму жидкость. Она в чем-то становится похожа на ту реку, в которую, как говорили древние, нельзя войти дважды. С каждой долей градуса меняется количество квазичастиц, а значит, меняется соотношение между нормальной и сверхтекучей компонентами. Таким образом, жидкость не только становится чуть теплее или чуть холоднее, чем была только что, а и оказывается вообще уже иной.
При абсолютном нуле квазичастиц нет вовсе, «теплород» отсутствует, вся жидкость сверхтекуча. С повышением температуры растет количество квазичастиц, сверхтекучая масса постепенно уступает свое место нормальной. В точке перехода гелия II в гелий I сверхтекучая компонента уходит с арены совсем. Вся жидкость превращается в нормальную, причем уже в подлинно нормальную, во всем, по всем параметрам.
Отойдем от обеих границ, от нуля и от λ-точки, зафиксируем какую-нибудь — любую — температуру внутри этого интервала и еще раз бросим взгляд на события, происходящие в гелии II. Так как сверхтекучее движение вообще не сопровождается каким бы то ни было переносом теплоты, а все тепло переносит нормальная компонента, то повторим слова одного физика: «В известном смысле можно сказать, что это и есть само тепло, которое, таким образом, становится в жидком гелии самостоятельным, отрываясь от общей массы жидкости и как бы приобретая способность перемещаться относительно некоторого «фона», находящегося при абсолютном нуле температуры. Стоит вдуматься в эту картину, чтобы понять, сколь радикально она отличается от обычного представления о тепле как о хаотическом движении атомов вещества, неотделимом от всей его массы». Увидеть такую картину, конечно, нельзя. А вот вдуматься в нее, поразмыслить над ней можно. И тогда поймешь, что она не только удивительна, но и красива. Не говоря уже о том, что именно эта картина послужит ключом к поведению гелия. Объяснит парадоксы, раскроет секреты. Точнее, она, как следствие двухкомпонентной модели, объяснит все, что связано со странными «тепловыми эффектами» гелия II. А сама модель поможет понять и все остальное, касающееся собственно движения гелия — и в гелии,— в частности, удивительные сцены, вызванные сверхтекучестью.
Построив свою теорию, создав некий диалект языка квантовой механики, диалект, описывающий явление, прежде физикам неизвестное — квантовую жидкость, Ландау мог теперь именно на этом языке рассказать о том, что в действительности происходит с гелием II, как все странности его оборачиваются вполне закономерным, обязательным, даже единственно возможным поведением.
Ключом к объяснению чудес экспериментов пусть станут слова Ландау из его лекции, резюмирующие суть открытия и в то же время весьма эмоционально эту суть оценивающие:
— Теория показывает, что оба движения гелия II должны обладать существенно различными свойствами. Нормальное движение, связанное с теплом, является нормальным во всех смыслах. Именно оно обладает всеми свойствами всякого нормального движения, в частности, оно связано с вязкостью. Наоборот, сверхтекучее движение не связано ни с какой вязкостью.
На первый взгляд такая концепция имеет характер почти абсурда,— говорил Ландау.— Может показаться, что это довольно бессмысленное рассуждение, которое если и объясняет что-нибудь, то чисто словесным образом, без всякого реального результата. Однако это не так. Те два движения, о которых я вам сказал и существование которых производит такое дикое впечатление, могут быть непосредственно наблюдены на экспериментах.
Ландау переходит к объяснению экспериментов.
Почему, когда Капица измерял вязкость гелия II по протеканию его через узкие щели, он получал почти нулевые значения — сверхтекучесть! — а когда вязкость определялась по трению, которое испытывал вращающийся в гелии цилиндр, то получались вполне измеримые величины? Ведь для всех жидкостей оба результата всегда совпадают, одинаковы.
Такое происходит потому, отвечает Ландау, что при обоих способах фактически измеряется вязкость разных компонент гелия II. У Капицы через щели протекала сверхтекучая часть гелия, а нормальная компонента, обладающая вязкостью, через весьма узкую щель могла проходить, просачиваться в высшей степени медленно, еле-еле. Вот почему Капица в своих опытах открыл сверхтекучесть — у сверхтекучей компоненты вязкость действительно отсутствует.
Иное дело измерения с цилиндром. Вращаясь в гелии, цилиндр испытывает трение о нормальную часть жидкости, и это трение останавливает вращение цилиндра. Таким способом измеряется вязкость нормальной компоненты гелия II.
Та особенность, что через узкие щели проходит по существу только лишь сверхтекучая компонента, а нормальная это препятствие фактически преодолеть не может, позволила Ландау раскрыть секрет еще одного загадочного явления, наблюдавшегося Капицей.
— Именно этим объясняется знаменитый термомеханический эффект,— сказал Ландау,— то, что гелий охлаждается в том сосуде, куда втекает через тонкую щель, а нагревается в том сосуде, откуда вытекает. При сверхтекучем движении гелий вытекает без всякого тепла. Поэтому в том сосуде, куда он втекает, остается одно и то же количество тепла, а гелия становится больше. Следовательно, гелий в этом сосуде будет охлажденным. Наоборот, в том сосуде, откуда гелий вытекал, гелия становилось меньше, а тепла оставалось столько же. Естественно, что гелий в этом сосуде становился более нагретым.
И еще одна серия парадоксов, обнаруженных в опытах Капицы, ждала своего истолкования.
Почему при нагревании гелия в бульбочке из капилляра бьет струя жидкости, которая отклоняет крылышко? И почему при этом бульбочка не пустеет, как бы долго струя ни била?
— Возьмем этот удивительный эксперимент Капицы с бьющей струей жидкого гелия. С точки зрения теории сверхтекучести ясно, в чем тут дело,— рассказывал Ландау.— Нагревание жидкого гелия происходит не обычным образом. Обычным образом тепло переходит от молекулы к молекуле, без всего движения в целом. В жидком гелии под влиянием нагревания возникают одновременно два движения.
Нам теперь известно, о каких двух движениях говорит Ландау. Одно — нормальное, другое — сверхтекучее. И мы можем понять происходивший процесс. При нагревании гелия в сосуде — погруженном, как и подвесная система с крылышком, тоже в жидкий гелий,— из капилляра бьет струя, которая отклоняет крылышко. Это — струя нормальной компоненты, которая несет с собой тепло, и как всякая нормальная, обладающая вязкостью жидкость, при своем движении давит на крылышко, стоящее на ее пути. Все то время, пока бьет струя, через тот же капилляр из окружающего гелия навстречу струе и как бы «сквозь» нее в сосуд втекает поток сверхтекучей компоненты. Сверхтекучая масса гелия никакого воздействия на крылышко не оказывает, она просто индифферентно обтекает его. Вот почему опыт обнаруживает лишь струю нормальной компоненты. Но, с другой стороны, обе эти компоненты равны, как мы знаем, по массе. Именно в этом секрет удивительного явления — струя бьет, а бульбочка не пустеет. В каждый миг сколько количества жидкости уходит, столько и приходит; нормальный и сверхтекучий потоки полностью компенсируют друг друга по массе переносимого вещества. Точнее будет сказать, что вообще никакого суммарного движения жидкости как целого не происходит, так же как не меняется и реальное количество гелия в сосуде.
— Этим же обстоятельством,— говорит Ландау,— объясняется и грандиозная теплопроводность гелия — способность к передаче громадного количества тепла. В обыкновенной жидкости, где тепло передается молекулярным движением от молекулы к молекуле, оно передается медленно, В гелии возникают два противоположно направленных встречных потока. От нагретого конца к холодному идет поток нормальной жидкости, переносящей тепло; переносимого таким способом тепла с избытком хватает для объяснения экспериментально наблюдающихся больших величин теплопередачи. В обратном направлении идет поток сверхтекучей жидкости: оба потока по количеству переносимой ими массы в точности компенсируют друг друга, так что никакого реального макроскопического течения в гелии в действительности не возникает.
В добавление к тому, что сказал Ландау, стоит отметить, даже подчеркнуть, что так было открыто и объяснено совершенно новое явление в, казалось бы, досконально изученной макрофизике — новый вид теплопередачи. Это была не обычная теплопроводность. И не передача тепла путем конвекции. Хотя от каждой вроде бы что-то присутствовало. Подобно классической теплопроводности, новый вид передачи тепла не сопровождался движением массы жидкости как целого. С другой стороны, нечто аналогичное конвекции происходило с нормальной компонентой.
В результате всего и возникла та огромная величина, которая в свое время заставила Кеезома назвать этот процесс «сверхтеплопроводностью», а Капицу — заподозрить присутствие некой тайны, на которую следует обратить внимание.
Таким образом получилась необыкновенно красивая картина явления, картина, в которую гармонично вписались все детали. А физики, надо сказать, весьма чувствительны к эстетической стороне открытия, к форме, в которую автору удается его облечь. Говорят даже, что форма может служить добавочным критерием правильности теории. Так или иначе, красота работы ценится особенно.
Но осматривая нарисованную выше картину, вникая в нее — а такое удовольствие нам теперь доступно,— следует по-прежнему не забывать, что реальные физические процессы, которые протекают в гелии, гораздо необычнее, что они не поддаются ни зрительному представлению, ни чисто словесному описанию. Потому что нет никакого реального разделения квантовой жидкости гелий II на две компоненты. Единый, он так себя ведет, оборачивается для нас таким двуликим. Кстати, истинная — непредставимая — картина как чисто теоретическое творение еще более красива и гармонична.
Помимо словесного, качественного объяснения феномена гелия II, теория Ландау позволяла получить и количественные характеристики — это непременная обязанность теории.
Вспомним, что для построения кривой энергетического спектра Ландау привлек и некоторые экспериментальные данные. Теперь на основе своего спектра, его формы, его особенностей Ландау вычислил термодинамические величины гелия II и получил отличное совпадение с измеренными их значениями.
Но не только тепловые характеристики жидкого гелия определил Ландау. Крайне важным для самой теории было количественное соотношение между сверхтекучей и нормальной массами. Тот факт, что при абсолютном нуле весь гелий сверхтекучий, а в точке перехода, при 2,19К, он целиком становится нормальным, сам по себе еще не раскрывал динамики процесса. Требовалось установить, как относительные количества сверхтекучей и нормальной масс меняются с изменением температуры в интервале существования гелия II.
Ландау такой расчет произвел и получил кривую зависимости от температуры уже известного нам отношения ρn/ρ однако экспериментально этот ход зависимости еще никем не подтверждался, подобные измерения никто не проводил.
Правда, у Ландау была идея одного опыта, которую он с охотой обсуждал. Среди собеседников оказался и молодой физик из Тбилиси Элевтер Андроникашвили. Впоследствии Андроникашвили вспоминал:
— Этот-то опыт и запал мне в душу, и мысли о нем не давали мне покоя на протяжении нескольких лет.— Дело было незадолго до начала войны.
В 1945 году Элевтер Луарсабович Андроникашвили стал докторантом Института физических проблем. Больше всего его увлекла та давняя задача — экспериментально определить соотношение нормальной и сверхтекучей компонент при разных температурах гелия II.
Но как определить? Решение — притом не только методическое, но и принципиальное — пришло далеко не сразу. Отправной точкой поисков стала известная нам ситуация, которая возникает в гелии при вращении.
— Представьте себе,— говорил потом Ландау,— что цилиндрический сосуд с гелием начинает вращаться, причем он начинает вращаться очень медленно, настолько медленно, что жидкость должна увлекаться при своем движении стенками сосуда. Так как жидкий гелий способен к двум движениям и его масса состоит из двух масс, то увлекаться будет только одна из них, именно нормальная масса гелия. Сверхтекучее движение, не будучи связано ни с какой вязкостью, не будет ни в каком взаимодействии со стенками сосуда и увлекаться не будет. При вращении гелия будет вращаться часть гелия, между тем как при вращении любой другой жидкости будет вращаться вся жидкость.
Примерно таким образом Ландау сформулировал принцип придуманных им опытов, которые и должен был проделать Андроникашвили. Но как определить, сколько гелия стоит неподвижно, а сколько вращается вместе с вращающимся сосудом?
Долгие размышления, расчеты, пробы привели, наконец, Андроникашвили к созданию прибора, с помощью которого ему удалось решить задачу.
Прежде всего он несколько изменил постановку опыта и соответственно прибора, заменив вращение сосуда крутильными колебаниями стопки параллельных металлических дисков:
«Мне пришло в голову построить прибор, состоящий из большого числа параллельных лепестков, который, будучи подвешен на тонкой упругой нити, должен был бы вместо вращения совершать малые колебания вокруг своей оси. Жидкость, обладающая вязкостью, будет вовлекаться лепестками в колебательное движение прибора, и чем больше ее масса, тем большим будет период колебаний. Жидкость, не обладающая трением, не будет увлекаться стопкой дисков (лепестков)».
Литературный дар в сочетании с темпераментом южанина позволяют нам чуть-чуть заглянуть в лабораторию, где трудится или, что часто бывает синонимом, мучается экспериментатор:
«Задуманный мною опыт был предельно трудным и, во всяком случае, выходил за рамки моих тогдашних экспериментальных возможностей. Он требовал мобилизации всех умственных и физических сил, вдохновения, терпения. Иногда нельзя было перевести дыхание в течение минуты, а иногда нельзя было отвести взгляд в течение получаса. Иногда нельзя было пошевелиться. С утра до вечера нельзя было сделать ни одного неосторожного или неправильного движения.
Каждый раз, когда приходилось переживать один из напряженнейших моментов жизни, во время сборки стопки дисков, в комнату врывался кто-нибудь и отвлекал мое внимание. Я делал неуверенное движение, и многочасовая работа шла насмарку. И не мудрено, так как держать в руках этот воздушный прибор, а тем более отдельные его части, было практически невозможно».
Секрет заключался в том, что сто тончайших, в одну тысячную сантиметра, дисков из алюминиевой фольги надо было укрепить на оси с величайшей точностью: все они должны быть абсолютно параллельными, а расстояние между каждой парой одинаково и точно равно двум сотым сантиметра.
«Настало время собирать лепестки из фольги в стопку,— вспоминает Андроникашвили.— Собрав стопку, заключаю ее в тончайшую алюминиевую оболочку... В этой эфемерной броне моему детищу были не страшны даже легкие прикосновения рук Ландау, которому было действительно разрешено его подержать несколько секунд, что он и сделал с весьма понимающим видом».
Первые же эксперименты показали, что путь был, избран верный. При вращении стопки сверхтекучая компонента легко проходила между дисками, а квазичастицы вроде бы «прилипали» к ним, а потому участвовали во вращении стопки, увлекались ею. При этом они, естественно, увеличивали общую вращающуюся массу, а следовательно, увеличивали период колебаний, то есть замедляли вращение.
Когда температура снижалась, квазичастиц, то есть нормальной компоненты, становилось меньше, и колебания убыстрялись. Так Андроникашвили получил количественную зависимость соотношения нормальной и сверхтекучей компонент от температуры гелия II.
Эти опыты в отличие от опытов Капицы проводились уже после создания теории — для ее проверки. Естественно, что ход их и результаты весьма занимали Ландау, и он был частым гостем в лаборатории у Андроникашвили.
«Началась систематическая планомерная борьба за каждую точку,— вспоминал потом Андроникашвили,— за точность каждого измерения и каждого отсчета, учет самых незначительных влияний, казалось бы, ничего не значащих факторов.
Ландау загорелся еще большим нетерпением. Его привычка ежедневно бывать в лабораториях и вызнавать у экспериментаторов, что нового произошло в их научной жизни, в то время превратилась в потребность».
Вместе они продумывали — до деталей — новые опыты. Ландау объяснял возникавшие по ходу дела сложности, неожиданные и странные, как казалось экспериментаторам, результаты. Сотрудники любили эти посещения. В присутствии Ландау всегда было интересно и весело. Вперемежку с делом шел забавный «треп». Подшучивали и над Ландау, чаще всего острили на одну тему: что получится, если допустить его к приборам. Шутки Ландау охотно принимал. Но зато и у него был свой «джентльменский набор» — обычно он выдавал его в ответ на мысли и предложения, казавшиеся ему неверными,— патология, ахинея, чушь, галиматья... Темпераментно выкрикиваемые синонимы этим не исчерпывались, бывали и похлеще.
Тонкие эксперименты Андроникашвили привели к отличному совпадению измеренных величин с расчетными, а значит, и к полному подтверждению теории.
Андроникашвили рассказывал, что когда он написал статью и показал ее Ландау, тот заметил, что название не отражает в достаточной степени сущности обнаруженных фактов:
— В тексте вы пишете: «Удалось установить, что описанным способом возбуждается только нормальный вид движения, тогда как сверхтекучая часть гелия II остается неподвижной». Тогда так и озаглавьте вашу статью: «Непосредственное наблюдение двух видов движения в гелии II». Это же фундаментальный факт, что гелий II может одновременно и стоять и двигаться! — подчеркнул Ландау.
А потом, уже перед широкой аудиторией, Ландау сказал:
— Замечательные результаты были обнаружены Элевтером Андроникашвили. При экспериментах оказалось, что выше 2,19 К гелий при вращении увлекается весь, а ниже этой температуры гелий увлекается тем в меньшем количестве, чем ниже температура. Таким образом, Андроникашвили имел возможность непосредственно измерить, какая часть массы гелия является нормальной и какая часть массы гелия является сверхтекучей.
Сверхтекучее движение не есть теоретическая фикция,— продолжал Ландау,— это есть вообще реально наблюдающееся при эксперименте явление. Полученные количественные результаты тоже оказались в прекрасном согласии с теорией. Таким образом эксперимент Андроникашвили наглядно показал, что заложенная в теории жидкого гелия основа, несмотря на свою странность, отвечает реальной действительности.
В 1983 году, когда физики отмечают семидесятипятилетие со дня рождения Ландау, жидкий гелий тоже может праздновать два своих юбилея: семьдесят пять лет существования и сорок пять — открытия Капицей сверхтекучести. В сорокалетнюю годовщину своего открытия Петр Леонидович Капица получил, наконец, Нобелевскую премию «за его основополагающие открытия и изобретения в области физики низких температур».
Как мы видели, обнаружение сверхкучести и других загадочных свойств гелия II вызвало к жизни фундаментальную теорию Ландау, раскрывающую природу квантовой жидкости. Согласие этой теории и со всем комплексом опытов Капицы и с последующими экспериментами, проделанными его учениками, было впечатляюще полным. Успеху несомненно способствовала тесная и постоянная связь теоретика Ландау с экспериментаторами.
«Главная его сила была в ясном и строгом логическом мышлении, основанном на крайне широкой эрудиции,— говорил Капица.— Он любил изучать результаты эксперимента, облекать их в математическую форму, а затем выяснять их значение для теории. Он понимал, что в научном исследовании связь между теорией и экспериментом должна быть совершенно отчетливой. Экспериментаторы в свою очередь очень любили обсуждать с Ландау полученные ими результаты». Вообще говоря, взаимодействие и сосуществование теоретической и экспериментальной физики в той или иной форме прослеживается во всех крупных открытиях. Но в то же время это вещь довольно тонкая. И, бывает, неоднозначно понимаемая.
Взаимоотношения теории и эксперимента, как правило, по-разному оцениваются представителями одного и другого методов познания природы. Что, вероятно, естественно.
— Каждый считает, что его работа самая важная,— неоднократно повторял Капица свой излюбленный афоризм.
А в развитие темы это звучало так: «Большинство ведущих английских ученых обычно отличается тем, что они главное значение придают эксперименту, рассматривая теорию как вспомогательное оружие. Более ста сорока лет тому назад еще Дэви сказал, что «один хороший эксперимент стоит больше изобретательности ньютоновского ума». Эта фраза часто повторяется и по сей день. Любили ее цитировать такие современные ученые, как Дж. Дж. Томсон, Резерфорд. Ее надо рассматривать, конечно, как гиперболу, как лозунг протеста против обожествления теории». Вот и Резерфорд однажды сказал о теоретиках: «Они играют в свои символы, а мы в Кавендише добываем неподдельные твердые факты природы».
Действительно, в Англии, в «островной школе» (к которой принадлежал и Капица) считали именно так в отличие от школ «континентальных», «материковых» — школ Бора, Паули и других. А что думал и говорил Ландау по поводу взаимоотношений, точнее, взаимодействия теоретиков и экспериментаторов мы уже знаем.
«Исследователь должен,— сказал Эйнштейн,— выведать у природы четко формулируемые общие принципы, отражающие определенные общие черты совокупности множества экспериментально установленных фактов».
В этом — роль и предназначение теоретика. Но великий физик много раз убеждался сам, как нелегок этот путь. Поэтому он и заметил с мудрой усмешкой:
«Вряд ли можно позавидовать теоретику — исследователю природы. Его труд судит неумолимый и не очень-то дружелюбный судья — опыт. Опыт никогда не скажет теории «да», но говорит в лучшем случае «может быть», большей же частью — просто «нет». Когда опыт согласуется с теорией, для нее это означает «может быть»; когда же он противоречит ей, объявляется приговор: «нет».
Физики, в том числе и Ландау, любят повторять слова Бора о том, что совпадение теории с опытом ничего не значит, потому что среди бесконечного множества (употребляется математический термин «континуум») дурацких теорий всегда найдутся и такие, которые совпадут с экспериментом.
Пусть так. Но что всегда бывало апробацией теории, самоутверждением ее — это предсказание новых явлений, таких, о которых ранее никто не подозревал; а потом, на указанном и освещенном теорией «месте», их действительно находили.
Именно это и имел в виду Ландау, когда в публичной лекции он сказал:
— Теория не только объяснила те явления, о которых я говорил,— и что всегда является не вполне достаточным критерием правильности теории,— но и предсказала ряд явлений, которые в дальнейшем были все обнаружены экспериментами.
Подлинным триумфом теории Ландау стало предсказание «второго звука».
Что такое звук, звуковая волна? Откроем любую энциклопедию. «Звук — волнообразно распространяющееся колебательное движение частиц упругой среды (воздуха, воды и т. д.)... Физическое понятие о звуке охватывает как слышимые, так и неслышимые колебания упругих сред... Источниками звука являются тела или системы тел, движение которых относительно окружающей среды нарушает ее равновесное состояние».
Такова норма. Но для гелия II, как мы уже много раз убеждались, законы не писаны.
Строя на основании своей теории математическую -картину движения жидкого гелия как целого, всей его массы, Ландау и здесь получает удивительный результат. Уравнения недвусмысленно утверждают: в гелии II, помимо обычного звука с обычными его чертами, должен распространяться и еще один, совсем особенный, «необычный звук». Главное их различие, вытекающее из уравнений, это величина скорости, а еще больше — зависимость скорости от температуры.
В то время как обычный звук в гелии, как и в других жидких средах, почти не зависит от температуры, тот другой, названный вторым звуком, зависит — и очень сильно и весьма интересным образом. При абсолютном нуле и вблизи него скорость второго звука по своей величине примерно в полтора раза меньше скорости обычного, «первого» звука. Потом она резко падает, потом остается почти постоянной, а в l-точке обращается в нуль.
Когда в институте Физпроблем стало известно о теоретическом предсказании Ландау, то внимание сразу оказалось прикованным к новому феномену. И естественно, захотелось как можно скорее проверить теорию, обнаружить второй звук в эксперименте.
Первым энтузиастом стал ленинградский акустик С. Я. Соколов. Он предложил Капице попробовать измерить второй звук с помощью имевшейся у него исключительно чувствительной аппаратуры для акустических измерений. Капица попросил Шальникова помочь Соколову. Они собрали установку и в конце мая 1941 года начали свои опыты.
Звуковые колебания в гелии возбуждались с помощью вибрирующей пьезокварцевой пластинки. Из пьезокварца же был сделан и приемник колебаний. Ожидалось, что приемник зарегистрирует два сигнала — один, соответствующий обычному звуку, распространяющемуся с обычной скоростью, другой — гораздо более медленно распространяющемуся второму звуку.
До середины лета 1941 года, до самой эвакуации института в Казань, шли эти измерения. Однако ни к каким положительным результатам они не привели. Второй звук отсутствовал, не обнаруживался. Отрицательный результат был непонятен. По-видимому, секрет крылся в чем-то принципиальном, следовало менять саму стратегию поисков.
Загадка не переставала волновать физиков института, и экспериментаторов и теоретиков, начиная, конечно, с Ландау. И в 1944 году Е. М. Лифшиц берется за эту задачу, чтобы выяснить все со вторым звуком.
Теоретически рассмотрев ситуацию, Лифшиц полно раскрывает особую физическую природу второго звука. При этом становятся понятны и причины отрицательного результата опытов Соколова и Шальникова. И одновременно открываются пути экспериментального наблюдения второго звука. Позднее, когда весь комплекс этих работ был позади, Лифшиц так изложил сущность явления:
«Как хорошо известно, звуковые волны в обычной жидкости представляют собой распространяющийся вдоль среды процесс периодических сжатий и разрежений. Каждая частица жидкости совершает при этом колебательное движение, двигаясь с периодически меняющейся скоростью вокруг среднего положения равновесия. Но мы уже знаем, что в гелии II могут одновременно происходить с разными скоростями два различных движения. В связи с этим возникают две различные возможности для движения в звуковой волне. Если обе компоненты жидкости совершают колебательное движение в одинаковом направлении, двигаясь как бы вместе, то мы будем иметь звуковую волну того же характера, что и в обычной жидкости.
Но есть и иная, специфическая для гелия II возможность — обе компоненты могут совершать колебания во взаимно противоположных направлениях, двигаясь навстречу, «одна сквозь другую», так что количество массы, переносимой в том и другом направлении, почти взаимно компенсируется. В такой волне — это и есть волна второго звука — практически не будет происходить сжатий и разрежений жидкости как таковой. По этой причине колебания мембраны, производящие периодические сжатия и разрежения жидкости, будут фактически приводить к возбуждению лишь обычного звука. С этим и был связан отрицательный результат опыта — интенсивность второго звука была слишком мала, чтобы быть обнаруженной.
Но из сказанного следует и другой вывод. Взаимные колебания нормальной и сверхтекучей компонент по существу представляют собой колебания тепла относительно «сверхтекучего фона» и должны приводить в первую очередь к периодическим колебаниям температуры жидкости. Естественно поэтому, что такая «тепловая волна» должна излучаться с наибольшей интенсивностью от нагревателя с периодически меняющейся температурой».
Таким образом, оказалось, что отрицательные результаты, полученные в опытах Соколова и Шальникова, были не просто правильными, а единственно возможными.
— Нам повезло, что мы не обнаружили того, что обнаружить было нельзя,— вспоминал академик Шальников.— Такое с экспериментаторами случается.
Итак, второй звук не потому нельзя обнаружить обычным способом и услышать, что частота его отличается от той, которую воспринимает наше ухо (как, например, у тоже неслышного ультразвука). Наоборот, второй звук имеет широкий диапазон частот, заключающий в себе и те, которые — будь он звуком «нормальным» — мы бы непременно услышали. Природа второго звука — колебания тепла, температурные волны; и искать и измерять их надо такими методами, какими измеряют тепло.
Имея после работы Лифшица точную руководящую идею, за измерение второго звука взялся Василий Петрович Пешков, бывший в те годы аспирантом Капицы.
Так как второй звук — это колебания не плотности, а тепла, значит, чтобы получить его, следует возбудить в гелии именно тепловые колебания, которые подобно звуковой волне станут распространяться в жидкости.
Серию таких экспериментов и проделал Пешков. Возбуждались колебания тепла — на погруженный в гелий нагреватель поступал переменный ток от звукового генератора.
Как мы помним, количество тепла в гелии II связано с величиной нормальной компоненты, иными словами — с количеством квазичастиц. А число квазичастиц прямым образом связано с температурой гелия. Следовательно, колебания тепла предстают перед экспериментатором в форме колебаний температуры. Заставляя термометр «путешествовать», приближая и удаляя его от нагревателя с периодически меняющейся температурой, Пешков четко зарегистрировал периодические колебания температуры в самой жидкости, то есть существование второго звука.
Конечно, чрезвычайно важны были тут и количественные результаты. Потому что теория и расчеты Ландау давали и весьма своеобразную зависимость скорости второго звука от температуры, и величину скорости для каждой данной температуры.
Результаты проверки предсказанного им явления не могли не волновать Ландау. «Он заходил ко мне и к Пешкову по нескольку раз в день, — вспоминает Андроникашвили,— собирал сведения об опытах со вторым звуком, которые вел Пешков, садился за мой стол и, анализируя уже накопленные экспериментальные данные, старался представить, как кривая пойдет дальше с понижением температуры».
Его присутствие, как рассказывают сотрудники, всегда вносило оживление, давало новый поворот мыслям, рождало неожиданные идеи. Всегда бывал и традиционный обмен репликами и шутками. Кто-нибудь обязательно не забывал спросить:
— Дау, а вы сумеете отличить молоток от паяльника?
Вскоре после завершения Пешковым всей серии своих работ Ландау в популярной лекции коротко изложил суть дела:
— В жидком гелии, в отличие от обыкновенной жидкости, могут распространяться два разных звука. Звук — это есть колебание плотности жидкости. Теория показала, что наряду с таким звуком в гелии может распространяться звук особого рода, связанный с возможностью двух движений. В гелии возможен еще один звук, когда в целом масса не перемещается, а колебание нормальной и сверхтекучей частей происходит друг относительно друга. Содержащая тепло часть гелия колеблется относительно остального гелия. Этот звук получил название второго звука и был открыт Пешковым, который обнаружил распространение этого звука в гелии II.
Распространение второго звука,— продолжал Ландау,— легко отличить от распространения обыкновенного звука, потому что его скорость не имеет ничего общего со скоростью обыкновенного звука: вместо 240 метров в секунду составляет 20 метров в секунду. Пешкову удалось обнаружить, что в гелии действительно распространяется особого вида звук. Он оказался колебанием тепла. Если производить колебания температуры в обыкновенной жидкости, эти колебания быстро затухают. Никакого второго звука здесь не получается. Если колебать температуру в жидком гелии, то это колебание распространяется как звук с определенной скоростью, которая составляет около 20 метров в секунду. Таким образом и это явление, предсказанное теоретически, было наблюдено при эксперименте,— заключил Ландау.
В действительности, однако, все обстояло несколько сложнее и интересней. Вот что писал Ландау уже в научной статье: «Скорость «второго звука» в гелии II была с большой точностью измерена В. Пешковым. Его результаты дают возможность произвести количественное сравнение развитой автором теории с экспериментом. Такое сравнение полностью подтверждает общую картину, даваемую теорией, но в то же самое время обнаруживает заметное несоответствие между вычисленной и наблюденной величинами скорости (например, при температуре 1,6° К вычисленная скорость равна 25 м/сек, а наблюденная — 19 м/сек). Хотя это несоответствие не очень велико, оно оказывается слишком большим, чтобы его можно было приписать неточности экспериментальных данных о термодинамических величинах гелия II.
При вычислении скорости второго звука использовались формулы для термодинамических величин, выведенные в предположении о том, что энергетический спектр жидкости состоит из двух ветвей — фононной и ротонной. Знак наблюдаемого расхождения указывает, в каком направлении следует изменить это предположение».
Размышления Ландау привели его к выводу, что энергетический спектр гелия II не следует разделять на две ветви — фононную и ротонную; что между этими двумя типами квазичастиц должен существовать непрерывный переход — он произойдет, естественно, не в начале спектра, где энергия линейно зависит от импульса, а дальше, там, где линейная зависимость кончается, а сами импульсы будут больше, то есть из длинноволновых станут коротковолновыми.
«Для такого спектра,— писал Ландау,— разумеется, нельзя говорить о фононах и ротонах как о строго различных типах элементарных возбуждений. Было бы более корректным говорить просто о длинноволновых (малые р) и коротковолновых возбуждениях. Следует подчеркнуть, что все заключения, касающиеся сверхтекучести и всей макроскопической гидродинамики гелия II (речь идет о двухкомпонентной модели гелия, движении в нем, втором звуке и т. д.— А. Л.)... сохраняют свою справедливость также и в случае предлагаемого здесь спектра».
Отныне, после этой работы Ландау, построенный им энергетический спектр гелия II приобрел свою окончательную форму — стал таким, как на этом рисунке.
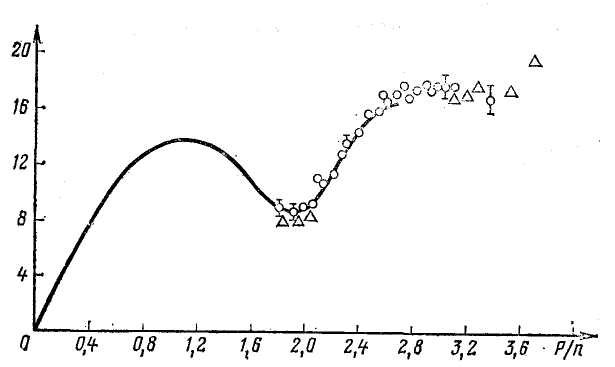
Однако, несмотря на непрерывность кривой спектра, и сам Ландау, и другие физики продолжали по-прежнему пользоваться названиями — фононы и ротоны. Потому что, во-первых, между этими двумя типами элементарных возбуждений весьма ощутимые различия; а во-вторых, характер возбуждений таков, что основная часть их соответствует минимумам энергии, то есть малым импульсам в начале координат (фононы) и большим — вблизи минимума кривой спектра (ротоны).
Здесь скажем немного о работах Л. Тиссы, который тоже занимался разгадкой природы сверхтекучести. Венгерский физик-теоретик Ласло Тисса некоторое время работал в Харькове у Ландау, потом вернулся в Венгрию, оттуда эмигрировал во Францию и наконец поселился в Соединенных Штатах.
«Я хотел бы воспользоваться случаем отметить несомненную заслугу Л. Тиссы, заключающуюся во введении им еще в 1938 г. идеи о макроскопическом описании гелия II с помощью разделения его плотности на две части и введения двух полей скоростей, что дало ему возможность предсказать существование двух видов звуковых волн в гелии II (подробная статья Тиссы была получена в СССР ввиду условий военного времени только в 1943 г.; короткая заметка осталась, к сожалению, в свое время не замеченной мной)».
Так писал Ландау, откликаясь на другую, опубликованную в 1947 году работу Тиссы, где тот строит свою теорию сверхтекучести и вступает в полемику с Ландау.
Мы не станем останавливаться на теории Тиссы. Потому что, хотя, как отметил Ландау, в качественном, притом макроскопическом, описании гелия II и содержалось некое рациональное зерно, основа его теории была неверной. Именно это обстоятельство привело к тому, что количественные предсказания теории Тиссы оказались в дальнейшем опровергнутыми экспериментом.
Спустя некоторое время Ландау совместно с Халатниковым построил теорию вязкости гелия II, по поводу которой он, как вспоминает Андроникашвили, весьма знаменательно пошутил:
— Вся теоретическая физика делится на две части: собственно теоретическую физику и теорию вязкости гелия II.
Эта фраза отнюдь не означала возвеличивания теории вязкости и умаления всей остальной теоретической физики. Она просто стала неким эмоциональным эпилогом к длинной-длинной (что необычно для Ландау) статье; а длинной статья получилась потому, что пришлось рассматривать не только проблему в целом, но и много частных случаев.
Да, каждый свой секрет жидкий гелий сохранял так настойчиво, что раскрытие его требовало огромных усилий. И секрет поведения вязкости тоже поддался далеко не сразу, было потрачено много труда, придумано множество изощренных подходов. Работа увенчалась успехом. И опять теория оказалась в согласии с экспериментом.
Итак, содружество теории и эксперимента, их взаимопомощь и взаимообогащение принесли отличные плоды. А последний этап — предсказание второго звука, экспериментальное открытие его и уточнение кривой энергетического спектра — стал примером подлинной обратной связи между двумя методами познания природы — теорией и опытом.
Конечно, массированному и успешному проникновению в тайны гелия II способствовал тот весьма редкий в истории науки факт, что вся работа была сделана в стенах одного института. Физпроблемы стали домом, где сверхтекучесть сначала открыли, потом объяснили теоретически, потом найденные теорией закономерности подтвердили экспериментально.
И еще. Как Ландау повезло, что он стоял у истоков открытия Капицей сверхтекучести, так и экспериментаторам необычайно повезло, что рядом с ними работал Ландау. С его постоянным интересом не только к результатам, которые приносил опыт, но и ко всем тонкостям, деталям, неожиданностям опыта, за которыми Ландау, как никто другой, умел разглядеть нечто новое и при этом с подлинным талантом, как сказал один из учеников Ландау, находить общий язык с экспериментаторами, на любом этапе исследований по-деловому взаимодействовать с ними. Так было и с разгадкой природы сверхтекучести гелия.
Это послесловие не к рассказу о созданной Ландау теории сверхтекучести, а к самому его открытию. И коль скоро имеешь в виду существо дела, всю проблему квантовых макросистем или, как еще говорят, квантовую механику конденсированных состояний, то такое послесловие к открытию Ландау разрастается в целую науку, а точнее — в несколько весьма мощных ветвей физики. И процесс этот, пожалуй, начался лишь сравнительно недавно — ветвям предстоит еще расти, взрослеть, набирать мощь и вес.
Правда, может быть и непосредственное послесловие к теории сверхтекучести гелия II. В первую очередь следует назвать эксперимент, с помощью которого физики получили кривую энергетического спектра.
В сосуд с гелием II были запущены нейтроны. Метод исследования путем бомбардировки вещества как нейтронами, так и заряженными частицами применяется в физике очень широко. Частица-«пуля» взаимодействует с частицей-«мишенью», а результаты взаимодействия, измеряемые приборами или фиксируемые фотопленкой, рассказывают о свойствах частиц.
Нейтроны, попадая в жидкий гелий, тоже не проходят сквозь него индифферентно, без взаимодействия. Но с чем они взаимодействуют? В этом-то все дело. Не с атомами, не с отдельными частицами делятся нейтроны своей энергией. Когда прибор регистрирует, что вылетевший из сосуда нейтрон потерял часть энергии и импульса, это значит, что отданы они были жидкости в целом. Другими словами, они пошли на рождение квазичастицы как раз с такими энергией и импульсом, какие потерял нейтрон.
Когда стали строить кривую по значениям, которые давали эти рассеянные в гелии II нейтроны, то оказалось, что она в точности повторяет энергетический спектр Ландау; экспериментальные точки — на лексиконе физиков — легли на теоретическую кривую.
Прежние эксперименты (Андроникашвили, Пешкова) впрямую подтвердили правильность двухкомпонентиой модели гелия II и косвенно — вид энергетического спектра. Нейтроны экспериментально «построили» всю кривую спектра, причем не только форма спектра, но и количественная зависимость энергии от импульса оказались в отличном согласии с теорией.
Опыт с нейтронами стал последним звеном в некой «триаде» или последовательности, так определенной Фейнманом: «Догадка — вычисление следствий — сравнение с результатами экспериментов».
Гелий, как и большинство элементов, имеет изотопы. Два из них устойчивы и потому находятся в природном газе. Это Не4 и Не3. Однако фактически весь природный гелий состоит из изотопа Не4, а Не3 — лишь ничтожная добавка к нему. «Главный» гелий состоит из двух протонов и двух нейтронов (естественно, речь идет о составе атомного ядра). Долгое время он был не только главным, а единственным среди «гелиев» объектом исследования (тем более, что легкий изотоп впервые обнаружили в 1939 году), и теория сверхтекучести построена именно для него.
Изотоп Не3 отличается от Не4 не одним только атомным весом — меньшим на четверть из-за отсутствия одного нейтрона. Особенно сильное различие проявляется в их квантовых свойствах. Ядро Не4 (всем известная альфа-частица) имеет в своем составе четыре частицы, то есть четное число, а ядро Не3 — нечетное. Существует важнейшая квантовая характеристика, так называемый «спин». Спин может принимать или целочисленные значения (в том числе и нулевое) или полуцелые. Так как каждая частица ядра имеет спин, равный половине, то суммарный спин атома Не4 — целый, а Не3 — полуцелый. Объекты с целыми и полуцелыми спинами описываются квантовой механикой по-разному, как говорят, они подчиняются разным квантовым статистикам; первые — статистике Бозе — Эйнштейна, вторые — статистике Ферми — Дирака. Одних поэтому называют «бозоны», а других — «фермионы». Атомы «главного» изотопа гелия — бозоны, а редкого Не3 — фермионы.
Принадлежность к тому или другому квантовому сообществу сказывается не только на поведении одного отдельного атома или одной частицы, но и на свойствах, поведении всей жидкости в целом. Созданная Ландау теория относится только к «бозе-жидкости», к сверхтекучести приводит построенный Ландау энергетический спектр «бозевского типа».
В 1956—1958 годах Ландау создал теорию ферми-жидкости, к которой принадлежит и изотоп Не3, когда он находится в жидком состоянии (Не3 сжижается при 3,2° К, то есть при еще более низкой температуре, чем Не4).
Хотя, повторяем, квантовые свойства этих двух жидкостей совершенно различны, но в своей теории Ландау указал на возможные пути их сближения. Частицы с полуцелым спином могут исправить этот свой «порок», соединившись, например, в пары. Именно такую возможность объединения атомов в некие коллективы имел в виду Ландау, когда писал, что «всякая жидкость из бозе-частиц обязательно обладает сверхтекучестью. Обратная теорема о том, что жидкость, состоящая из ферми-частиц, не может быть сверхтекучей, ...в общем виде не верна».
Для Не3, как показали более поздние теоретические расчеты, возможность подобных объединений, а следовательно, и перехода в другую, сверхтекучую фазу, может реализоваться только при сверхнизких температурах, таких, для которых доли градуса уже огромная величина.
В конце концов переход в другую фазу, когда и этот изотоп, Не3, стал сверхтекучей жидкостью, осуществился. Однако и тогда Не3 вовсе не стал во всем подобен Не4. В нем возникли, прежде всего, какие-то необычные магнитные свойства — а ведь у гелия II ничего похожего не бывало. Грубо говоря, сверхтекучий Не3 стал похож и на знакомый нам сверхтекучий изотоп Не4 — гелий II, как его привычно называть, и на сверхпроводящий металл, и еще появились в нем какие-то черты, пока физиками не понятые и не имеющие никаких аналогов.
Сейчас и теоретики и экспериментаторы разных стран широко занимаются изучением квантовых жидкостей. Большой интерес, в частности, привлекают свойства комбинаций таких жидкостей — их растворов, прежде всего раствора Не3 — Не4. Здесь удивительным образом сочетаются и взаимодействуют особенности обоих партнеров: сверхтекучесть, фазовые переходы, звуковые колебания, термодинамические характеристики... Тысячные доли градуса и миллиарды, даже десятки миллиардов градусов; или, пользуясь обычным в физике написанием, 10-3°К и 1010°К. О чем тут речь? О сверхтекучести. Первая цифра — та температура, при которой, удалось сделать сверхтекучим Не3. Она в тысячи раз меньше, чем соответствующая температура для Не4. А температуры в миллиарды градусов царят в недрах звезд. Например, тех, которые называются нейтронными звездами.
Нейтронная звезда, как полагают астрофизики, не однородный объект, одинаковый всюду — от центра до поверхности; напротив, она имеет сложное, многослойное строение. Однако есть серьезные основания полагать, что в областях, составляющих значительную часть звезды, нейтронная жидкость находится в сверхтекучем состоянии — и именно при температурах порядка миллиарда градусов.
Не исключено, что и атомное ядро несет в себе что-то от сверхтекучей жидкости.
Все такие идеи и подходы к столь различным объектам — по своему характеру, размерам, месту, занимаемому во Вселенной,— стали возможны после создания Ландау теории сверхтекучести. Недаром в формулировке о присуждении ему за эту работу Нобелевской премии стоят слова: «За пионерские исследования в теории конденсированного состояния материи, в особенности жидкого гелия».
ВМЕСТО ЭПИЛОГА: ЛАНДАУ ВНЕ ФИЗИКИ
— Ни у кого не было такого юбилея! — возбужденно говорил Ландау чуть ли не всем подряд. Празднование его пятидесятилетия стало радостным и ярким событием.
В человеческих отношениях и чувствах есть, вероятно, немало резонансных процессов. К ним относятся и все «личные» праздники. И юбилеи, какой был у Ландау. На таких вечерах очень приятно присутствовать, И можно как будто бы пересказать, что там происходило. Но все-таки по-настоящему атмосферу праздника не передашь. Именно потому, что юбилей — процесс сугубо резонансный.
Все здесь находит мгновенный отклик и понимание. Все шутки, остроты, стихи, песни, инсценировки. Они могут и не быть высотами поэзии и перлами остроумия. Все равно. Была бы «точность попадания». И тогда — овации, смех у такой отзывчивой в этот день аудитории (обычно же весьма критической и ироничной).
Но что может почувствовать даже человек посторонний — это степень и силу любви к юбиляру. Одна мудрая учительница, когда праздновали ее восьмидесятилетие, выслушав все горячие и искренние речи, переполненные превосходными степенями, сказала, что она отлично понимает цену слов, произносимых по такому поводу, но сам факт, что столько ее учеников на юбилей пришло, говорит об искренности их чувств.
Правда, теперь как торжественные, так и прочувственные речи на юбилеях отменены — во всяком случае, в среде физиков. Пытаются избежать также чтения адресов и приветствий. «Адреса сдавать швейцару» — такой плакат висел в вестибюле Института физических проблем в день пятидесятилетия Ландау. Торжественные вечера сейчас заменяются «капустниками». Но в том, как готовятся к такой дате, сколько рвения, изобретательности и труда вкладывают в сочинение стихов и поэм, в изготовление альбомов и специальных игрушек — во всем этом и видна подлинная любовь к юбиляру.
Рассказывают, что в начале юбилея Ландау был несколько грустный и растерянный. Может, на него произвела впечатление весьма почтенная «круглая дата» его жизни? Но вскоре общее веселье захватило и его. Или утешила телеграмма: «Кому сейчас не пятьдесят? Только мальчишкам». И конечно же, тронули подарки.
Уже известные нам мраморные скрижали с «Десятью заповедями Ландау» привезли из Института атомной энергии. И. М. Лифшиц, крупнейший филателист, придумал изготовить почтовую марку с портретом юбиляра. Портрет его был и на медали, где также выгравировали латинским шрифтом любимое изречение: «Ot duraca slyshu».
По образцу «Сотворения мира» Эффеля сделали альбом — о сотворении школы Ландау. Присутствующие могли ознакомиться с написанной к данному случаю «биографией» юбиляра. Она называлась «Правдивое жизнеописание академика Л. Д. Ландау от сотворения 22 января 1908 года до наших дней, составленное по воспоминаниям очевидцев, слухам и другим достоверным источникам и на основании справки из домоуправления». Было еще множество других подарков и веселых выдумок.
Конечно, все великолепно знали и помнили, какого масштаба ученый виновник торжества. Но в такой вечер — это «в подтексте», а если и в тексте, то в юмористическом облачении. А на первый план выходят человеческие черты. Пусть и для нас сейчас место физика Ландау займет «Дау вне физики».
Пожалуй, ключом к личности и поведению Ландау может служить глубочайшая убежденность его, что каждый человек должен, обязан быть счастливым. В этом его долг перед собой, перед жизнью и даже, если хотите, перед обществом. Он должен быть счастлив и в работе, и в любви, должен жить полной, насыщенной жизнью. Ландау любил рассказывать, как будет выглядеть Страшный суд: трое задают вопросы, и придется отвечать, как прожил жизнь, был ли счастлив.
Ландау не только проповедовал эту веру, но и весьма последовательно «работал над собой», чтобы стать действительно счастливым человеком, чтобы преодолеть в себе, а если удастся, то и вне себя, все то, что мешало ему быть счастливым. Напомним, что говорил Лифшиц о «преодолении себя», своей болезненной застенчивости, которая в юности отравляла ему существование: «Это свойство причиняло ему много страданий и временами — по его собственным признаниям в более поздние годы — доводило до отчаяния. Те изменения, которые произошли в нем с годами и превратили его в жизнерадостного, везде и всегда свободно чувствовавшего себя человека, в значительной степени результат столь характерной для него самодисциплинированности и чувства долга перед самим собой. Эти свойства, вместе с трезвым и самокритичным умом, позволили ему воспитать себя и превратить в человека с редкой способностью — умением быть счастливым. Та же трезвость ума позволяла ему всегда отличать настоящее в жизни от пустого, чему не следует придавать слишком большого значения, и тем самым сохранять равновесие духа в трудные моменты, которые были и в его жизни».
Может быть, такое активное отношение к счастью роднит Ландау с Томасом Манном, хотя содержание, которое вкладывалось каждым из них в слово «счастье», во многом различно, если не противоположно. Вот что писал Томас Манн брату Генриху в 1904 году, после своей помолвки:
«Счастье нечто совсем-совсем иное, чем представляют себе те, кто его не знает... Я никогда не считал счастье чем-то веселым и легким, а всегда чем-то таким же серьезным, трудным и строгим, как сама жизнь,— и, может быть, я подразумеваю под ним саму жизнь. Я его не «выиграл», оно мне не «выпало» — я его взял на себя, повинуясь некоему чувству долга, некоей морали, некоему врожденному императиву, которого я, поскольку он уводит от письменного стола, долго боялся... но который я со временем научился признавать чем-то нравственным. «Счастье» — это служение... Я ничего себе не облегчил. Счастье, мое счастье — это слишком в высокой степени переживание, волнение, познание, мука, оно слишком чуждо покою и слишком родственно страданию...»
Конечно, в наш век некоторые слова уже не звучат и произносят их теперь по большей части иронически. Но едва ли найдется так уж много людей, которые не хотели бы быть счастливыми. Почти наверняка они не станут об этом распространяться, скорей уж посетуют на то, что несчастны, что жизнь не удалась, что-то главное, существенное не состоялось.
А вот Ландау нашел в себе смелость, мужество, не боясь насмешек, не боясь иронии, сказать, даже провозгласить: «Я хочу быть счастливым». И — «Я должен быть счастливым». Но не только «я» — все люди. Или еще сильней: «Человек не имеет права не быть счастливым, он должен уметь построить свою жизнь, она дана на то, чтобы прожить ее хорошо».
А дальше шел набор рецептов. Давались советы. Было настоятельное, активное желание помочь, научить, объяснить. Была уверенность, что разум, логика — все, что действовало, работало в науке, должно сработать и тут. А все иррациональное, что вопреки логике, объявлялось надуманной — или выдуманной — усложненностью. Трудно — да, трудно бывает и может быть. Но всякие психологические сложности и «излишества» — это уже чуть ли не камуфляж, прикрывающий нежелание разобраться в себе и вести себя правильно, логично, разумно. Таково было кредо Ландау. Он усиленно старался следовать ему сам и усиленно учил этому других.
При этом с улыбкой повторял, что, к сожалению, не успел довести до конца главную свою теорию: как следует жить и как быть счастливым.
Вероятно, он упускал, не учитывал немаловажную подробность. В физике он был один на один с наукой. И был там царь и бог, конечно, до известного предела, потому что даже и царь и бог обнаруживают порой, что и они бессильны. В жизни, в человеческих отношениях всегда обязательны партнеры, и от них много и многое зависит.
Вспоминая свои разговоры с Ландау, М. И. Каганов пишет:
«Он по-настоящему глубоко, я бы сказал, выстраданно, интересовался «вечными темами». Его высказывания были не стандартны. Многих отпугивала «теорфизическая» ясность, с которой Дау пытался (и часто не без успеха) решать сложные задачи человеческих взаимоотношений. Он был глубоко убежден, что в большинстве случаев сложность взаимоотношений надуманна (он всегда строго различал слова «сложно» и «трудно»), и пытался добраться до материалистической сущности конфликта, если таковой был. По своему темпераменту Дау был просветителем, и не только в науке, но и в жизни. Он считал, что людей надо учить жить. И учил...
Ландау прожил трудную, но, по сути дела, счастливую жизнь. Он был окружен преданными учениками, признание и слава достались ему при жизни... Дау всегда уходил от прямого ответа на вопрос: «Что такое счастье?» Он разъяснял, что каждый сам знает, что это такое. Счастье — слишком личная категория, не допускающая обобщенного, безличного определения.
Видя все трудности жизни и сложности современного мира, Ландау оставался оптимистом; мрачные прогнозы были ему несвойственны. Особенно четко это проявлялось при научном прогнозировании».
— Дау очень любил давать советы,— фраза эта расхожая среди его знакомых.
Жениться — не жениться, развестись — не развестись, изменять — не изменять... И каждый раз, заинтересованно вникнув в подробности, Ландау доброжелательно высказывал свое авторитетное, подчас безапелляционное суждение — «давал совет».
В физике, например, он гораздо охотнее и чаще говорил: «подумай сам», «решайте сами», а вот в житейских «проблемах» не слишком затруднялся советом. Больше того, чтобы выносить суждения и давать советы, нужна, естественно, информация. Отсюда ошеломляющий многих — особенно плохо знавших его или совсем с ним не знакомых людей — стиль его поведения, любовь задавать «нескромные вопросы». Им часто невдомек, что Ландау спрашивал их не из праздного или дурного любопытства, а с живейшим интересом и доброжелательностью и опять-таки с готовностью дать разумный, «научно обоснованный» совет.
У Ландау всегда был большой и искренний интерес к людям, к их судьбе, к подробностям их жизни. К разным людям, в том числе и к совершенно посторонним. И при разговоре, даже самом первом, ему сразу хотелось выяснить, как сложилась жизнь у его собеседника или собеседницы. Отсюда и шокирующие вопросы. В них не было ни пошлости, ни желания эпатировать, а просто неподдельный интерес. Хотя иногда, возможно, и бывало желание поставить собеседника в неловкое положение, заставить растеряться.
Но это, скорее, боковая ветвь его характера и поведения. В главном же стволе, как ни парадоксально это звучит, черты Ландау-человека, в какой-то степени были неразрывны с особенностями Ландау-физика, больше того, определялись ими.
Но может, правильней, сказать несколько иначе. Те и другие выросли из одного корня; и фундамент был общий. Ясность, точность предпосылок, исходных данных. Строгая система. Стремление «тривиализовать». Последнее нуждается в пояснении. Ландау, например, часто повторял, что самый распространенный недостаток — это жадность. Именно жадность бывает причиной неудач, разрывов, даже краха и в личной жизни, и в работе. Но люди не хотят признаваться в таком малоприглядном пороке, они пытаются прикрыть его рассуждениями о всяческих сложностях — взаимоотношений, человеческой психологии. И надо суметь разглядеть за этими «сложностями» их истинную элементарную подоплеку. Вот что значило «тривиализовать» по терминологии Ландау.
В физике это выглядело так: «Научному стилю Льва Давидовича была противна тенденция,— к сожалению, довольно распространенная,— превращать простые вещи в сложные... Сам он всегда стремился к обратному — сделать сложные вещи простыми, наиболее ясным образом выявить истинную простоту лежащих в основе явлений законов природы. Умение сделать это, «тривиализовать» вещи, как он сам говорил, составляло предмет его особой гордости»,— писал Е. М. Лифшиц.
Когда этот принцип сочетается с феноменальными способностями, с гениальным мозговым аппаратом, получается Ландау-физик. Когда на этом принципе строится поведение, отношения с людьми и к людям, когда так проявляются черты характера, даже не столько врожденные, сколько сознательно в себе воспитанные, и все вместе часто вступает в конфликты, в несоответствие с какими-то стандартами, с привычным и общепринятым стилем, тогда и возникает живая фигура Ландау.
Для этой главы, содержание которой — Ландау вне физики, хотелось попросить рассказать о нем, поделиться воспоминаниями тех, кто по профессии своей постоянно живет «вне физики». И если в какой-то степени они и приобщались к этой науке, то именно благодаря Ландау. Непримиримый к полузнайкам среди коллег, он с долготерпением и кротостью мог популярнейше объяснить физические идеи своим «внефизическим» друзьям и знакомым. И огорчался, если не видел должного интереса:
— Вы ведь не будете знать, как устроен мир! — возмущался он нерадивыми слушателями.
Но как раз всегда интересным для него собеседником был Вячеслав Всеволодович Иванов, ныне профессор, доктор филологических наук, лингвист широкого профиля, причем некоторые области его работы, как математическая лингвистика, находятся на стыке с точными науками... Вот каким запомнился ему Ландау, и такие вот мысли вызывал он сам, их встречи и разговоры:
«Нас никто не знакомил, не представлял друг другу. Мы как будто ехали в одном поезде. Оказавшись рядом в купе, почему и не поговорить со случайным попутчиком? Иной раз даже и душу ему откроешь, как не сможешь со старым знакомым или другом детства. Я не был ему другом, но наше купе растянулось на много лет — то это был дом Капицы, то другие дома общих знакомых, я не раз слушал его выступления и доклады — и для широкой публики, и для физиков. ...Вечерами он часто предпочитал светский разговор или молчание. Рядом со встречами, большей частью случайными, но не редкими, шел фольклор о Ландау, неисчерпаемый, поддерживаемый им самим. Я знал, иной раз и близко, и любимых его учеников, и неприятелей. Поэтому взгляд на него со стороны (и влюбленный, и разочарованный) совмещался с моим собственным, никогда не совпадая. Его образ, образ мысли, образ жизни наложили на меня отпечаток, иногда зовя к подражанию (особенно когда я убеждал своих друзей и слушателей взяться за составление лингвистических задач), но иногда как пример того, что не было мне по душе. Он был одной из составляющих перехода к взрослости и поиска в годы, для меня внутренне очень трудные. С ним и в его присутствии, а иногда и при воспоминании о нем (до несчастья) и его мыслях (до сих пор) мне трудно не бывало.
Ночь на первое января пятьдесят седьмого года. Встреча Нового года... Воспользовавшись затянувшейся под утро молчаливостью Ландау, я к нему подсаживаюсь и заговариваю о начале Вселенной. Он обсуждает давно занимающие меня вопросы релятивистской космологии очень серьезно. Разговор вдвоем за гигантским столом среди большой подвыпившей компании длится долго, потом к нам кто-то присоединяется, тогда Ландау переходит на популярный тон и рассказывает о замысле книги, которая объясняла бы физику для всех. Но вот мы вместе выходим из дома и садимся в одно такси, нам по пути. В машине кроме нас есть и другие — и Ландау возвращается к своему более привычному тону: «Но я так и не понял, вы подкаблучник или нет?» — спрашивает он меня настойчиво и с таким видом, как будто мы с ним до того говорили все раннее утро не об общей теории относительности, а о моих отношениях с моей женой».
Один из друзей Ландау передал Иванову запомнившуюся ему реплику Бора. Дело было в 1934 году, когда Нильс Бор приезжал в Москву. Во время встречи с крупнейшими нашими физиками Ландау почему-то вышел посередине разговора, и тогда Бор обратился к остальным со словами:
— Подумайте! Какой замечательный физик! И ведь здесь он совсем один!
«Я думаю, что это главное для понимания или непонимания Ландау,— подчеркивает Иванов.— Ни среди его учеников, ни среди его ученых недоброжелателей не было людей, с ним отдаленно сопоставимых».
Это мнение В. Иванова, что Ландау был одинок — как ученый, прежде всего, но не только,— определяет его восприятие связанных с Ландау эпизодов, событий, довлеет над многими его оценками.
А. как было в действительности? И как мог бы отнестись к такому утверждению сам Ландау? Представляется, что правильней всего можно ответить на эти вопросы, если рассматривать ситуацию, так сказать, «во времени и в пространстве». В первый приезд Бора в Москву в 1934 году становление школы Ландау только начиналось и, конечно, вспоминая Копенгаген, куда съезжался весь цвет мировой теоретической физики и где все, в том числе и Ландау, так хорошо себя чувствовали, не следует удивляться замечанию Бора. Для Ландау главное содержание, смысл жизни заключала в себе работа. Шла она, как мы знаем, по двум часто переплетающимся направлениям: собственная научная работа и создание, а потом и деятельность школы — особенно в московский период. Тем и другим Ландау занимался неустанно — для себя лично, для учеников, для физики (здесь порядок слов можно изменить — по-всякому будет правильно). Кто не видел Ландау в процессе его работы, прежде всего, совместной работы с учениками — наедине, на семинарах,— когда обсуждались, обдумывались, решались физические вопросы, тот истинного Ландау не знает, не может знать. Естественно, речь идет о том, чтобы не просто наблюдать со стороны, а понимать всю суть, все тонкости разговора. Тогда даже мимика и интонации Ландау расскажут, каким он бывал счастливым в такие минуты...
Вообще, разве может быть одинокой мать, окруженная любящими ее, близкими ей детьми? Поэтому, думается, в главе «Школа Ландау» содержится достаточно пространный и убедительный ответ и на эти вопросы.
...В 1961 году, приехав снова в Москву и много общаясь с Ландау — что было так радостно для них обоих,— Бор уже таких слов не говорил.
Когда-то один из друзей Ландау (по странному и случайному совпадению, тот же, кто передал Иванову слова Бора) сказал автору этой книжки (тогда еще будущему автору будущей книжки):
— Писать о Ландау?! Что бы и как бы вы ни написали, все физики будут недовольны и будут вас ругать. И я в том числе, конечно...
Слава богу, пророчество это не оправдалось. А приводится оно здесь только для того, чтобы лишний раз подчеркнуть, что если в оценке Ландау-физика все более или менее единодушны, то Ландау-человека все воспринимали по-разному, и то, что представлялось несомненным одному, отрицалось и отвергалось другими.
После этого отступления вернемся к рассказу Иванова: . .
«На людях, как и поэт из «Египетских ночей» Пушкина, он старался быть человеком суетного света, чтобы никто не заподозрил его священных жертв — иногда казалось, что он сам не хочет о них думать...
Не понимая его глубокого одиночества, нельзя разгадать многого — и его попытки оберечь науку, и его стремления сохранить свое «я». Остроты и парадоксы, как и молчание, были нужны среди девальвации слов, прежде всего торжественных.
У Ландау было много слабостей — от бросающихся в глаза до очень затаенных, может быть, даже скрываемых от себя. Его сверхрационалистичность наполовину была наигрышем, поэтому ему она не мешала. А подражать такой игре может только очень большой артист. Совсем нельзя подражать только его единственности...
От самых разных людей, его знавших, иногда во всем ему полярных, мне случалось слышать уважительный пересказ замечаний Ландау (вроде его остроты о науках естественных, неестественных и противоестественных).
В нем ни возраст, ни все события его жизни не могли искоренить мальчишества, без которого ему самому стало бы невыносимо скучно.
Он проносил через жизнь свою строптивую легкость... Боги его любили. Они не хотели, чтобы он пережил свое мальчишество, длившееся до самого несчастья. Люди вмешались (я их не виню, я сам был среди этих тысяч, сам торопливо звонил кому-то о каких-то иностранных лекарствах), но боги решили по-своему... Путь вперед — в науку будущего и в отнятую вместе с ней старость — оборвался тогда, когда он ехал в Дубну в гололед...»
А теперь — еще одно воспоминание. Рассказывает замечательный наш поэт Давид Самойлович Самойлов:
«С Ландау я познакомился (если память не изменяет) в 1947 году, на Рижском взморье. Не помню, как это произошло, скорей всего он сам обратил внимание на красоту моей жены и познакомился не столько со мной, сколько с ней. Он был экстравагантен по природе, держался «кавалером», болтал пустяки. Но в пустяки и в «кавалерство» как-то не верилось. А необычность была убедительна. Сразу чувствовалась его чистота, внутренняя скромность, скрытая от взора глубина. Он мне очень понравился. А за женой ухаживал так деликатно, так старался не обидеть меня, что и ревности никакой не было.
С этого лета мы встречались до того рокового случая, когда Ландау перестал быть Ландау.
Серьезных разговоров мы, как правило, не вели. В современной поэзии он не был начитан. Нравился ему Симонов. Впрочем, он никогда не был категоричен в тех областях, где не считал себя специалистом. Вообще, удивительно был воспитанный человек.
На вопросы о коллегах отвечал обычно односложно и доброжелательно, в худшем случае — равнодушно. Ученики его обожали и преклонялись перед ним. Он создал не только школу ученых, но и особую манеру поведения «под Дау», которую культивировали его ученики. О «Ландау-минимуме» ходили легенды. Один из учеников мне рассказывал: Ландау задали какой-то трудный вопрос. Он подумал и написал на доске формулу. Его спросили, как он вывел эту формулу.
— Ну, это каждый дурак понимает,— сказал он. И ушел.
Виделись мы не часто, но регулярно. Обычно он заранее звонил по телефону, спрашивал, можно ли прийти.
Любил, когда у нас бывали гости, охотно слушал и рассказывал смешные истории и анекдоты. Смеялся характерным насморочным смехом. При всей своей экстравагантности он был всегда естествен, не было в нем зазнайства и наигрыша. От него веяло особым аристократизмом. Он был аристократически прост.
Однажды встретился у меня с поэтом Николаем Глазковым. Было это в начале 50-х годов. Как всегда представился:
— Дау.
— А я был на могиле художника Доу,— сказал Глазков, предварительно сообщив Дау, что он Г. Г., что значит гений Глазков.
— Доу это не я,— отозвался Ландау, ничуть не удивившись, что перед ним гений.
— Я самый сильный из интеллигентов,— заявил Глазков.
— Самый сильный из интеллигентов,— серьезно возразил Дау,— профессор Виноградов. Он может сломать толстую палку.
— А я могу переломить полено.
Так произошло знакомство двух гениев. После чего они сели играть в шахматы. Стихи Глазкова, кажется, понравились Дау, как и их автор».
Прервем эти воспоминания перед их печальным концом. Чтобы к слову сказать: Д. Самойлов стал свидетелем весьма нетривиального зрелища — Ландау за шахматами. Общеизвестно, что, умея играть, он обычно категорически отказывался сесть за доску и, конечно, подвел и здесь «теоретический фундамент». Он говорил, что шахматы требуют умственных усилий. А если уж такие усилия тратить, то лучше на то, что дает не меньше удовольствия, но при этом еще приносит и пользу — например, лучше решать интегральные уравнения или какие-нибудь сложные задачи. Рассказывают, что когда он узнал, что Зоммерфельд запретил своим ученикам играть в шахматы, то проникся к тому особым уважением.
«Последний раз Дау пришел к нам дней за десять до произошедшей с ним катастрофы.
Шел разговор о долголетии.
— Мне цыганка нагадала, что я буду жить сто лет,— сказал он.
Эта фраза вспомнилась, когда нам позвонил его ученик Юра Каган и сообщил о несчастье.
Больще Ландау я не видел»,— заканчивает воспоминания Д. Самойлов.
Вероятно, несмотря на свои принципы, Ландау не избежал эволюции во вкусах и пристрастиях. Но все же какие-то вещи повторял неизменно. «Я — реалист»,— всегда говорил он. Очень любил Стендаля, особенно «Красное и черное». Любил Драйзера (больше, чем Хемингуэя), особенно «Гения». Он объяснял, почему любит «Монте-Кристо», но не любит «Трех мушкетеров». Месть Монте-Кристо была справедливым возмездием за преступления, то есть в основе романа лежала справедливость. Миледи действительно была ужасной, жестокой и коварной женщиной. Но ведь она не виновата, что стала такой, ведь поначалу с ней поступили ужасно, жестоко и несправедливо.
Только очень искренние люди относятся к героям, как к живым людям. А может, это и вовсе чуть ли не научный подход теоретика? Исходная посылка была неверной, значит, и все на ней построенное должно быть отвергнуто как несостоятельное.
В литературных вкусах Ландау случайного было мало. Их определяла некая довольно логичная система взглядов.
Если искать общий его подход, то представляется, что он отвергал литературу излишне усложненных, по его мнению, и неоднозначных чувств и отношений, а также и такую, в которой присутствовало то, что он называл «патологией» (одно из его любимых, как мы знаем, словечек). И в литературе, как и в науке, он ратовал за естественность и однозначность. Но это вовсе не значит, что воспринимал он художественные произведения рационально, чисто рассудочно, а не эмоционально.
Наоборот, ему импонировали чувства сильные, цельные (недаром он считал, что любовная линия в «По ком звонит колокол» — одна из вершин мировой литературы), однако в них должна быть чистота и ясность.
Так относясь к «Колоколу», он в то же время многого в Хемингуэе не любил и не принимал, скорее всего, именно из-за усложненности, импрессионизма, подтекста, присутствующих почти во всех его вещах.
А вот, скажем, «Опасный поворот» Пристли нравился ему очень; не только сюжет, интрига, стиль письма, но и жизненная правда этой пьесы привлекали его. И он не раз повторял, что если семья кажется вполне благополучной, то нередко там что-то скрывается...
Стихи были его прочной любовью на всю жизнь. Знал их множество, причем на разных языках. Гейне, Гёте, Шамиссо декламировал по-немецки, Киплинга, По, других англичан и американцев — по-английски; все на память.
Любил он стихи определенного характера,— вспоминает Елена Феликсовна Пуриц.— Читал их немного с подвыванием. Очень любил баллады, многие помнил наизусть: «Смальгольмского барона», «Королеву Британии»...
Ясное содержание, сюжет, действие — то, что непременно присутствует в балладах, отвечало его вкусам. К персонажам литературных произведений он относился как к своим знакомым, обсуждал (или осуждал) их характеры и поступки. Впрочем, также относился он и к историческим деятелям — разных стран и веков.
Даже простое перечисление его любимых авторов и вещей — и стихов, и прозы,— а также произведений нелюбимых, равнодушно или активно, даже яростно отвергаемых, дает представление и о его вкусах, и о его читательской, да и жизненной позиции. В списке, им самим составленном, есть много стихов Пушкина, Лермонтова, Некрасова, есть Тютчев и Блок. Он очень любил стихи «мужества» — Киплинга, Гумилева, Симонова. Вообще часто повторял: «Я — симонист», имея в виду прежде всего стихи Симонова военных лет. Но вот когда ему прочитали «Гамлета» Пастернака, поразился глубине и силе этого стихотворения и тут же переписал его в записную книжку. А однажды перед началом институтского семинара он услышал стихотворение Мандельштама «За гремучую доблесть грядущих веков...» и тоже записал его для себя.
Всегда ли он, упрямо или добродушно, с вызовом или без, но отстаивал свои вкусы? С полным сознанием, что каков он есть, такой и хорош? Или бывало и сожаление, что какие-то вещи, радующие других, ему недоступны?
Немножко сказал о себе он сам в интервью «Неделе», которое называлось: «Если откровенно...»
«Боюсь кого-либо разочаровать, но я воспринимаю фильмы сугубо «по-детски». Волнуюсь за судьбу героев, переживаю, люблю тех, кто мне понравится, ненавижу подлецов. Разумеется, это в том случае, если картина интересна. Если же нет,— извините меня, но я, насколько возможно тихо, на цыпочках ухожу из кинозала. Когда фильм скучен, его для меня не спасут никакие режиссерские «находки». Я не выношу уже самого этого термина.
О режиссуре я предпочитаю думать после фильма. Если картина мне понравилась, я с радостью и благодарностью вспоминаю имена ее авторов. Но если режиссер назойливо напоминает о себе, искусственно замедляя действие картины, он только раздражает.
Именно действие — главное для меня в кино. Непрерывное действие, от которого ни на минуту нельзя оторваться.
Из наших фильмов последних лет на меня произвели очень сильное впечатление — «Дом, в котором я живу» и «Баллада о солдате». В них проявилась незаурядная режиссерская изобретательность, которая в то же время не нарушает естественного течения повествования.
Чего я очень не люблю в кино — это скуки. Да простят мне некоторую резкость, но я называю подобные произведения «тянучкой». Я не могу выдержать медленного ритма повествования, тяжелой манеры игры, бесконечных «немых» сцен без событий.
Один из самых опасных источников скучных фильмов — попытка «растянуть» короткую новеллу или повесть до обычных размеров полнометражных фильмов. Особенно неудачны — и главным образом по этой причине — экранизации Чехова, например «Попрыгунья» или «Дама с собачкой».
Разные фильмы даже у одного и того же художника не обязательно должны быть равноценны. Григорий Чухрай поставил после удачного фильма «Сорок первый» и замечательной «Баллады о солдате» довольно скучную, на мой взгляд, картину «Чистое небо». Хотя нельзя не отметить, что и в этом фильме с благодарностью чувствуешь какое-то внутреннее благородство авторов.
В этой беседе мне волей-неволей приходится «выносить приговор» (правда, только от своего имени) многим произведениям, возникшим в результате большого и напряженного труда. Мне очень не хотелось бы, чтобы авторы этих произведений (если они паче чаяния ознакомятся с моими высказываниями) решили, что я ставлю себя над ними в позу судьи или школьного учителя. Несмотря на некоторую безапелляционность моих суждений, я очень далек от стремления навязывать свой художественный вкус кому бы то ни было. Могу заверить, что, будь я начальником кинопроката, я охотно выпускал бы на экран даже очень плохие, с моей точки зрения, картины, лишь бы существовала аудитория, которой они доставляли бы радость.
...Велика ли воспитательная роль кино? Нельзя представить себе негодяя, на которого подействуют убеждения в превосходстве благородства над подлостью, даже если эти убеждения хорошо проиллюстрированы. Точно так же было бы наивно думать, что просмотр детективной картины пробуждает в человеке преступные инстинкты. Однако, если фильм силой своего воздействия заставляет человека волноваться по поводу чужих судеб, он, человек, при этом становится лучше и добрее, хотя, может быть, и на самую малость.
Позволю себе закончить тем, в чем я, пожалуй, несколько компетентен: вопросом об изображении в кино жизни и труда ученых.
К сожалению, не только в кино, но и в литературе можно по пальцам сосчитать удачи в этой области. Из книг для меня (не считая «Скучной истории» Чехова) до сих пор лучшей остается «Эрроусмит» Синклера Льюиса, дающая яркую картину психологии работника науки. Из фильмов?.. Даже знаменитый «Депутат Балтики» дает совершенно неправильную картину характера труда ученого. Я вовсе не намерен становиться на точку зрения профессионала, скрупулезно выискивающего мельчайшие специфические неточности,— это не имело бы значения. Грустно видеть неправильное изображение среды, характера взаимоотношений... Писатели и режиссеры пока еще мало и плохо знают мир людей науки».
Вероятно, сказанное о кино можно отнести и к литературе. Но если в литературе он был сверхправоверным «реалистом», то в изобразительных искусствах был гораздо более широким — не боялся любить и понимать живопись «после Делакруа». Восхищался и старым, и новым (но не абстрактным) искусством, и Франсом Хал-сом, и Николаем Рерихом. Вообще живопись очень любил и хорошо ее знал.
Все с юмором рассказывают, как он не терпел оперу и балет. Здесь можно с легкостью построить схему, отвечающую его принципам. Действительно, это же «патология», когда люди «поют» свои мысли и чувства, а тем более «танцуют» их. Ведь для этого существуют слова, речь. Такое «противоестественное» поведение людей на сцене было, как говорят математики, ортогонально его «реалистической» натуре. Попросту — противопоказано ей. Как будто также однозначны были и его отношения с музыкой. Не любил, не понимал, не хотел слушать. Просто делил ее на тихую и громкую, говорил, что тихая лучше — не мешает думать, а себя называл «слепым к музыке».
Но вот что рассказала Е. Ф. Пуриц. Однажды в тридцатые годы зашел разговор о музыке, и Дау сказал:
— По-видимому, надо пойти на Бетховена. Вероятно, это самое лучшее. Если это не подействует, то уж не подействует ничто.
«Это» не подействовало...
С образом «внефизического» Ландау у многих ассоциируется и слово «пластинка». Например, друзья его вспоминают, что из последних по времени любимой была именно «пластинка о жадности», одном из самых презираемых Ландау пороков. Причем жадностью он считал не только страсть к накопительству. Это понятие было для него гораздо более широким. Сюда еще входили и карьеризм, и вообще способность неблаговидным образом устраивать свои дела, и стремление к «выгодному» супружеству, и тому подобное.
Не надо думать, сказал друг Ландау М. А. Корец, что Дау разговаривал афоризмами. Дело происходило иначе. В процессе разговоров вырабатывалась формулировка. А формулировки он любил запоминать. Так возникала «пластинка».
Корец вспоминает, как еще в Харькове Ландау объяснил ему свою классификацию разговоров, разумеется, не относящихся к науке, вообще не деловых. Первый тип — наиболее привлекательный и единственно ему по-настоящему интересный и нужный — это творческий разговор, когда думаешь вместе с собеседником. Но такой разговор можно вести далеко не со всяким. С другой стороны, молчать, когда творческий разговор не получается, тоже не всегда удобно. Поэтому придуман был второй тип разговора — «пластинка». У каждого должен быть свой набор «пластинок». Надо только следить, чтобы при одном и том же человеке какая-нибудь «пластинка» не проигрывалась дважды. И наконец, третий тип — это «шум», который вызывает акустические колебания в атмосфере. Разговору такого типа особенно талантливо предаются женщины, и если хотеть с ними свободно общаться, то следует самому научиться и воспринимать, и производить «шум». (Пожалуй, синонимом «шума» можно считать «светскую болтовню».) Дау считал, однако, что овладеть этим типом разговора есть большое искусство, и всегда огорчался, что при общении с «особами» он сам никогда не мог его достичь и обычно заменял «шум» «пластинками».
Таким был Ландау вне работы, вне физики.
Еще четыре года активного творчества прошли с того юбилейного праздника.
Как-то Ландау, встретив после многолетнего перерыва Лилю Пуриц, осведомился у нее не без тревоги:
— Я не потускнел?
На что последовал искренний и радостный ответ:
— Нисколько не потускнел!
Нисколько «не тускнел» Ландау и как ученый — до последнего своего рабочего, творческого часа...
ПРИЛОЖЕНИЕ
Академик Е. М, Лифшиц
21 год отделяет нас от трагического случая, прервавшего блестящую деятельность Льва Давидовича Ландау. Уже никто из тех, кто избирает теперь теоретическую физику делом своей жизни, не имеет возможности получить напутствие от человека, дверь К которому была открыта всякому, ищущему его совета в науке. Отходит в прошлое, обрастая легендами, и облик этого необыкновенного человека. Даже самые яркие воспоминания тех, кто имел счастье находиться среди его близких учеников и друзей, не могут передать в полной мере своеобразие, блеск и обаяние его личности.
Всякие воспоминания неизбежно несут в себе что-то и от личности вспоминающего, и лишь прямая, не искаженная никем другим речь человека раскрывает свойства его души.
Живую речь человека доносят после смерти его письма. Но письма Лев Давидович писал с большим трудом и писал нечасто. Ему вообще было трудно излагать свои мысли на бумаге (так, на одно из предложений написать популярную статью он отвечает: «Вы, возможно, слышали, что я совершенно не способен к какой-либо писательской деятельности, и все, написанное мной, всегда связано с соавторами»). Ему было нелегко написать даже статью с изложением собственной (без соавторов!) научной работы, и все такие статьи в течение многих лет писались для него другими. Непреодолимое стремление к лаконичности и четкости выражений заставляло его так долго подбирать каждую фразу, что в результате труд написания чего угодно — будь то научная статья или личное письмо — становился мучительным.
Тем более замечательно и характерно для его высокого чувства долга, что Лев Давидович всегда (хотя иногда и не сразу) отвечал на письма тех, кто обращался к нему за советом или помощью («Отвечаю с задержкой, отнюдь не принципиальной, а связанной только с тем, что я с трудом пишу письма и поэтому очень долго собираюсь»; и снова: «Извините за задержку, связанную с моей крайней антипатией к эпистолярному искусству»).
В течение многих лет он диктовал эти письма прямо на машинку в секретариате Института физических проблем, расхаживая по комнате и тщательно обдумывая каждую фразу. Нине Дмитриевне Лошкаревой, многолетнему референту института, мы обязаны тем, что копии этих писем — хотя они были «личные», а не «служебные» — сохранились.
Много писалось о том, что Ландау был не только гениальным физиком, но и учителем по призванию. Объединение в одном лице этих двух качеств в таком масштабе встречается нечасто в истории науки; в этом отношении позволительно сравнить Ландау с его собственным учителем — великим Нильсом Бором. Хотя в их эмоциональном облике и свойствах характера было мало общего — доведенная до предела мягкость Бора не была похожа на экспансивность и резкость Ландау,— общим у них было нечто гораздо более глубокое: абсолютная бескомпромиссность в науке сочеталась с доброжелательностью к людям, готовностью помочь тому, кто искал свой путь в науке, умением радоваться чужому таланту и чужим научным успехам.
Естественно поэтому, что в переписке Льва Давидовича значительное место занимали ответы молодежи, обращавшейся к нему с вопросами, как и чему учиться. Эти ответы не только демонстрируют качества души Льва Давидовича, в них он многократно высказывал свои взгляды на обучение будущих физиков; эти взгляды будут интересны и новому поколению научной молодежи.
Студент одного из пензенских втузов пишет Льву Давидовичу о том, что много труда тратит на работу в лаборатории кафедры физики, но теряется перед множеством того, что надо знать. «Я еще в самом начале своего пути, мне плохо видны дороги, ведущие в науку, и я очень прошу помочь мне организоваться, взять правильное направление. А помочь Вы могли бы мне просто и очень многим: если бы Вы могли написать мне план, своего рода программу, что мне нужно изучить и в какой последовательности». Лев Давидович отвечает:
Дорогой тов. Б.!
Вы, по-видимому, всерьез интересуетесь физикой, и мне бы очень хотелось помочь Вам. Очень хорошо, что Вы понимаете, что для научной работы Вам нужно многому научиться.
Что касается того, чему Вам надо обучаться, то это очень существенно зависит от Ваших будущих планов. Дело в том, что современные физики бывают двух сортов — теоретики и экспериментаторы. Теоретики пишут пером формулы на бумаге, а экспериментаторы работают с приборами в лабораториях. Естественно, что этим двум категориям необходимо не вполне одинаковое образование. Ясно, что теоретическое образование теоретиков должно быть гораздо более полным и глубоким, хотя, конечно, и экспериментаторам нужно знать довольно много.
Поэтому обдумайте этот вопрос и напишите мне, каковы Ваши намерения. Тогда я охотно пришлю Вам соответствующие программы, после изучения которых Вы, как мне кажется, будете достаточно подготовлены для начала.
С наилучшими пожеланиями
Ваш Л. Ландау.
Рабочий Л. пишет Льву Давидовичу: «Через неделю я уезжаю из Москвы и буду бесконечно благодарен Вам, если Вы найдете время дать мне несколько советов о том, что и как я должен изучить для того, чтобы стать физиком-теоретиком, и о том, стоит ли мне к этому стремиться... Знания мои соответствуют примерно трем курсам мехмата МГУ, но мне уже 25 лет, и я рабочий». Пишет о проблемах, которые он пытался решить, о трудностях в понимании основ физических теорий, о том, как он пытался обойти эти трудности; упоминает также, что плохо усваивает иностранные языки. «Очень прошу Вас, Лев Давидович, напишите мне, пожалуйста, есть ли у меня надежда стать физиком. А если есть, то, кроме Вашей знаменитой программы и тех советов, которые Вы пожелаете мне дать, я прошу Вас сообщить мне, в какие сроки Ваша программа обычно выполняется, чтобы я мог еще раз оценить свои возможности. Лев Давидович! Я знаю, как дорого стоит Ваше время, и буду считать высокой честью для себя, если Вы мне ответите». Лев Давидович пишет:
Уважаемый тов. Л.! Постараюсь ответить на Ваши вопросы. Конечно, трудно сказать заранее, сколь велики Ваши способности в области теоретической физики. Однако не боги горшки обжигают. Я думаю, что Вы сможете успешно работать в области теоретической физики, если по-настоящему хотите этого. Очень важно, чтобы эта работа представляла для Вас непосредственный интерес. Соображения тщеславия никак не могут заменить реального интереса.
Ясно, что прежде всего Вы должны овладеть как следует техникой теоретической физики. Само по себе это не слишком трудно, тем более, что у Вас есть часть математического образования, а математическая техника есть основа нашей науки. 25 лет не слишком много (мне вдвое больше, а я не собираюсь бросать), а труд рабочего, во всяком случае, не мог Вас испортить.
Только не старайтесь решать никаких проблем. Надо просто работать, а решение проблемы приходит само. Трудное экономическое положение может, конечно, мешать, поскольку работать на голодный желудок или очень усталым нелегко. Иностранные языки, увы, необходимы. Не забывайте, что для усвоения их, несомненно, не нужно особых способностей, поскольку английским языком неплохо владеют и очень тупые англичане. Вы правильно пришли к выводу, что надо меньше думать об основах. Главное, чем надо овладеть,— это техникой работы, а понимание тонкостей само придет потом.
Суммируя, могу сказать, что теоретиком Вы станете, если у Вас настоящий интерес и умение работать. Программу вкладываю в это письмо. Что касается сроков, то они будут очень зависеть от того, в какой степени Вы будете загружены другими вещами, и от того, что Вы в данный момент реально знаете. На практике они варьировали от двух с половиной месяцев у Померанчука, который почти все знал раньше, до нескольких лет в других, тоже хороших случаях. С наилучшими пожеланиями
Ваш Ландау.
Студент одного из вузов тоже говорит о своем увлечении теоретической физикой, о том, как он мечется среди множества книг и статей, которые он пока плохо понимает. Рассказывает, что однажды приходил на семинар Ландау в Институте физических проблем (доступ на который был всегда открыт всем желающим), но ничего не понял, а подойти к Ландау не решился. Вот ответ Льва Давидовича:
Дорогой тов. Р.!
Если Вы всерьез интересуетесь теоретической физикой, то я охотно помогу Вам заняться этой, как мне тоже кажется, увлекательной наукой.
Естественно, что Вы теряетесь перед огромной массой материала и не знаете, с чего начать. Ясно, что теоретический семинар для Вас сейчас совершенно непонятен и Вам еще рано его посещать. Посылаю Вам программу «теоретического минимума», которую Вы можете (если хотите) сдавать мне и моим сотрудникам раздел за разделом.
Начинать надо с математики, которая, как Вы знаете, является основой нашей науки. Содержание указано в программе. Имейте в виду, что под знанием математики мы понимаем не всяческие теоремы, а умение реально на практике интегрировать, решать в квадратурах обыкновенные дифференциальные уравнения и т. д.
Мои телефоны тоже указаны в программе. Бояться меня не стоит — я вовсе не кусаюсь. С пожеланиями успеха Ваш
Л. Ландау.
Еще одно обращение к Льву Давидовичу: «Когда-то Эйнштейн не отказал в помощи студенту Инфельду, и поэтому я решился написать именно Вам в надежде, что Вы не откажете мне в моей маленькой просьбе. Я тоже студент, но пока лишь II курса радиотехнического факультета, но я очень люблю теоретическую физику. Вы, вероятно, очень заняты, но если у Вас найдется несколько свободных минут и для меня, то я Вам буду очень благодарен. Мне совершенно необходимо иметь глубокие и разносторонние знания по большинству областей теоретической физики и, значит, и по необходимой для этого высшей математике... Простите, что я Вас беспокою, но для меня это очень важно, и хотя, может быть, это и не совсем прилично, но ведь в жизни, если идти трудным путем, не всегда бывает место для приличия». Лев Давидович отвечает в канун Нового года:
Дорогой тов. К.!
Охотно отвечаю на Ваше письмо. Вы совершенно правы, считая, что для занятий теоретической физикой Вам прежде всего необходимо приобрести познания в этой области. Я охотно помогу Вам в этом.
Как Вы поняли сами, теоретику в первую голову необходимо знание математики. При этом нужны не всякие теоремы существования, на которые так щедры математики, а математическая техника, то есть умение решать конкретные математические задачи.
Я бы рекомендовал Вам следующую программу обучения. Прежде всего научиться правильно (и по возможности быстро) дифференцировать, интегрировать, решать обыкновенные дифференциальные уравнения в квадратурах; изучите векторный анализ и тензорную алгебру (то есть умение оперировать с тензорными индексами). Главную роль при этом изучении должен играть не учебник, а задачник — какой, не очень существенно, лишь бы в нем было достаточно много задач.
После этого позвоните мне по телефону (лучше всего от 9.30 до 10.30 утра, когда я почти всегда дома, но можно и в любое другое время) и приходите ко мне. Я проэкзаменую Вас и дам Вам программу для дальнейшего обучения. Если Вы сдадите мне всю эту программу (на что в зависимости от Ваших знаний и усердия Вам понадобится один-два-три года), то я буду считать, что Вы вполне подготовлены для научной работы, и постараюсь помочь Вам, если Вы захотите, устроиться в этом направлении.
Вот и все. С пожеланиями счастливого Нового года Ваш
Ландау.
Поскольку москвичи всегда могли обратиться к Льву Давидовичу непосредственно, то естественно, что письма к нему шли главным образом из других городов. Многие спрашивали: можно ли стать физиком-теоретиком, обучаясь не в специальном физическом институте, не в университете? Они чувствовали себя стоящими перед дилеммой: продолжать ли учиться в своем вузе или пытаться уйти из него, чтобы продолжить образование самостоятельно?
Одному из таких сомневающихся, студенту пединститута, Лев Давидович отвечал:
Мне кажется, что Вы напрасно ставите себя перед дилеммой. То, что Вы кончите пединститут, во всяком случае Вам пригодится, и вряд ли учение в институте будет очень мешать Вам работать. Если у Вас хватит желания, Вы сможете изучить теоретическую физику самостоятельно — ведь она ничего, кроме книг и бумаги, не требует.
Студенту другого пединститута по аналогичному поводу Лев Давидович писал:
То, что Вы страстно хотите заниматься физикой, очень хорошо, поскольку страстная любовь к науке есть первый залог успеха. К счастью, теоретическая физика — такая наука, для изучения которой пребывание в университете совсем не обязательно. Я посылаю Вам в этом письме программу, изучение которой даст Вам в области теоретической физики знания, достаточные для дальнейшей самостоятельной работы. Учтите, что особенно важно владение математикой. Основные разделы математики упомянуты в вводной части программы.
Если Вы сможете и захотите, то приезжайте в Москву, где Вы сможете сдавать мне и моим сотрудникам разделы программы (их с математикой всего девять). Если Вы успешно справитесь с этой задачей, то я надеюсь, что смогу помочь Вам в Вашем устройстве на работу по теоретической физике и в том случае, если Вы окончите не МГУ, а всего только Тульский педагогический институт.
Вот, собственно, и все. Искренне желаю Вам всяческих успехов. Помните, что в науке самое главное — это работа, а все остальное приложится.
Страстную увлеченность наукой, энтузиазм, за которым не стоит никаких посторонних побуждений, Лев Давидович ценил больше всего, и они неизменно возбуждали в нем симпатию и желание помочь. Тон его ответов, однако, становился менее сочувственным, если из обращения к нему он не обнаруживал сразу такой увлеченности. Так, выпускникам иногороднего университета, выразившим желание поступить на работу в теоретический отдел Института физических проблем, но сообщавшим в связи с этим лишь о своей возможности получить московскую прописку, Лев Давидович писал:
К сожалению, не могу очень обнадежить Вас. Мы боимся брать котов в мешке и берем себе аспирантов лишь после сдачи ими теоретической физики в виде так называемого теорминимума. Программу при сем прилагаю. Сдавать можно в любые сроки. Если Вы успешно пролезете через потенциальный барьер, то, вероятно, можно было бы взять Вас даже без московской прописки, поскольку Академия наук предоставляет иногородним аспирантам общежитие.
Программа «теоретического минимума», о которой идет речь во всех этих письмах, была впервые разработана Ландау еще в тридцатые годы, во время его работы в Украинском физико-техническом институте в Харькове, где вокруг него начали собираться ученики и начала создаваться его школа теоретической физики. В дальнейшем эта программа непрерывно обновлялась, но лежащие в ее основе педагогические принципы оставались неизменными.
Лев Давидович был врагом всякой поверхностности и дилетантизма: приступать к самостоятельной научной работе можно лишь после достаточно всестороннего изучения основ науки. В соответствии с его глубоким убеждением в целостности теоретической физики как единой науки с едиными методами он требовал от желающих стать его учениками предварительного овладения основами всех разделов теоретической физики. Эти основы были распределены по семи последовательным разделам «теоретического минимума» (механика, теория поля, квантовая механика, статистическая физика, механика сплошных сред, микроскопическая электродинамика, релятивистская квантовая теория).
Характернейшей чертой научного творчества самого Ландау являлась его широта, почти беспрецедентная по своему масштабу; оно охватывало собой всю теоретическую физику — от гидродинамики до квантовой теории поля. В наш век все усиливающейся узкой специализации такая разносторонность становится исключительным явлением; в лице Ландау из физики ушел, возможно, один из последних великих универсалов. Разумеется, он не требовал ни от кого быть универсальным в той же степени, в которой он был сам. Но знание всех разделов теоретической физики — по крайней мере в объеме теорминимума — он считал обязательным для всех теоретиков, вне зависимости от их узкой специализации. Снова и снова он повторяет:
На Ваши вопросы по поводу изучения теоретической физики могу сказать только, что изучить надо ВСЕ ее основные разделы, причем порядок их изучения дается их взаимной связью. В качестве метода изучения могу только подчеркнуть, что необходимо самому производить все вычисления, а не предоставлять их авторам читаемых Вами книг.
Интересно, что в то же время Лев Давидович считал практически невозможным совмещение в одном лице полноценной теоретической и экспериментальной работы в физике. Группе студентов, которые высказывают мнение о том, что настоящий физик-теоретик должен совмещать в себе также и экспериментатора, Лев Давидович писал:
Те, которые считают, что физик-теоретик соединяет в себе также и экспериментатора, по-видимому, представляют себе теоретиков в виде сверхлюдей. Теоретическая и экспериментальная физика сейчас настолько сильно отличаются, что соединить их в одном лице практически невозможно. Единственное исключение за последние десятилетия представлял Ферми, но, учитывая его гениальность, это исключение только подтверждает правило. Занимаясь разными сторонами физики, теоретики и экспериментаторы дополняют друг друга и взаимно связаны, но одни из них не руководят другими.
Экзамен по теорминимуму всегда был, если можно так выразиться, действенным: требовались не выводы тех или иных теоретических формул, а умение применить свои знания для решения предлагавшихся конкретных задач. Первое время Лев Давидович сам принимал все экзамены. В дальнейшем, когда число желающих стало слишком большим, эти обязанности были распределены также и между его ближайшими сотрудниками. Но первый экзамен, первое знакомство с каждым новым молодым человеком Лев Давидович всегда оставлял за собой. Встретиться с ним для этого мог всякий — достаточно было позвонить по телефону и выразить свое желание.
Конечно, не у всех, кто приступал к изучению теорминимума, хватало способностей и настойчивости для того, чтобы закончить его; многие отставали по пути. Всего 43 фамилии значатся в списке тех, кто за время — с 1934 по 1961 год — до конца прошел через это испытание (Лев Давидович сам вел этот список). Об эффективности отбора можно судить хотя бы по следующим формальным данным: одиннадцать из числа сдавших стали (на 1982 г.) членами Академии наук, а еще три — членами академий наук союзных республик (Е. М. Лифшиц имеет в виду и академиков, и членов-корреспондентов).
Из приведенных писем видно, какое большое значение Лев Давидович придавал ^владению математической техникой. Степень этого владения должна быть такой, чтобы математические затруднения по возможности не отвлекали внимания теоретика от физических трудностей задачи — по крайней мере там, где речь идет о стандартных математических приемах. Это может быть достигнуто лишь достаточной тренировкой. Между тем опыт показывает, что существующий стиль и программы университетского образования физиков часто не обеспечивают такой тренировки. Опыт показывает также, что изучение математики после того, как физик начинает самостоятельную исследовательскую деятельность, оказывается для него слишком «скучным». Поэтому первое, чему Лев Давидович подвергал всякого экзаменующегося, было испытание по математике в ее «практических», вычислительных аспектах. Требовалось: умение взять любой неопределенный интеграл (выражающейся через элементарные функции) и решить любое обыкновенное дифференциальное уравнение стандартного типа, знание векторного анализа и тензорной алгебры; во второй экзамен по математике входили основы теории функций комплексного переменного (теория вычетов, метод Лапласа). Предполагалось при этом, что такие разделы, как тензорный анализ, теория групп и т. д., будут изучены вместе с теми разделами теоретической физики, где они находят себе применение.
Взгляды Льва Давидовича на математическое образование физиков с большой ясностью высказаны им в ответ на просьбу сообщить свое мнение о программах по математике в одном из физических вузов. С присущей ему прямотой он проводит мысль о том, что эти программы должны составляться с полным учетом требований физических кафедр — тех, кто по своему повседневному опыту научной работы в физике знает, что для этой работы требуется. Он пишет:
К сожалению, Ваши программы страдают теми же недостатками, какими обычно страдают программы по математике, превращающие изучение математики физиками наполовину в утомительную трату времени. При всей важности математики для физиков физики, как известно, нуждаются в считающей аналитической математике; математики же, по непонятной мне причине, подсовывают нам в качестве принудительного ассортимента логические упражнения. В данной программе это прямо подчеркнуто в виде особого примечания в начале программы. Мне кажется, что давно пора обучать физиков тому, что они сами считают нужным для себя, а не спасать их души вопреки их собственному желанию. Мне не хочется дискутировать с достойной средневековой схоластики мыслью, что 'путем изучения ненужных им вещей люди будто бы научаются логически мыслить.
Я категорически считаю, что из математики, изучаемой физиками, должны быть полностью изгнаны всякие теоремы существования, слишком строгие доказательства и т. п. Поэтому я не буду отдельно останавливаться на многочисленных пунктах Вашей программы, резко противоречащих этой точке зрения. Сделаю только некоторые дополнительные замечания. Векторный анализ расположен в программе между кратными интегралами. Я не имею чего-либо против такого сочетания, однако надеюсь, что оно не идет в ущерб крайне необходимому формальному знанию формул векторного анализа.
Программа по рядам особенно перегружена ненужными вещами, в которых тонут те немногие полезные сведения, которые совершенно необходимо знать о ряде и интеграле Фурье.
Курс так называемой математической физики я считал бы правильным сделать факультативным. Нельзя требовать от физиков-экспериментаторов умения владеть этими вещами.
Необходимость в курсе теории вероятностей довольно сомнительна. Физики и без того излагают то, что им нужно, в курсах квантовой механики и статистической физики.
Таким образом, я считаю, что преподавание математики нуждается в серьезнейшей реформе. Те, кто возьмется за это важное и трудное дело, заслужат искреннюю благодарность как уже готовых физиков, так и в особенности многочисленных будущих поколений.
Глубоко интересуясь в течение всей своей жизни вопросами преподавания, Лев Давидович мечтал написать книги по физике на всех уровнях — от школьных учебников до курса теоретической физики для специалистов. Фактически при его жизни были закончены почти все тома «Теоретической физики» (Написана в соавторстве с Е. М. Лифшицем; в 1962 г. удостоена Ленинской премии,— Прим. ред) и первые тома «Курса общей физики» и «Физики для всех»; уже после его смерти началось издание составленного по его идее «Краткого курса теоретической физики». Он строил также планы составления учебников по математике для физиков, которые должны были быть в соответствии с его взглядами «руководством к действию», обучать практическому применению математики в физике.
Приступить к осуществлению этой программы он не успел. Не успел он приступить и к созданию школьных учебников, хотя всегда живо интересовался школой, охотно выступал перед школьниками и откликался на их письма.
Вот пионеры одной из школ г. Тулы пишут Льву Давидовичу: «Мы знаем, как мало у Вас свободного времени, но все-таки надеемся, что Вы найдете несколько минут и ответите нам. Мы хочем провести сбор на тему «Образование — клад, труд — ключ к нему», так как не все пионеры нашего класса понимают, зачем им нужно образование. И многие из них учат уроки не систематически, а только чтобы получить тройку. Нам очень хочется получить от Вас письмо, так как Ваши слова будут очень убедительны для наших пионеров». Лев Давидович отвечает:
Дорогие ребята!
Очень трудно писать об очевидных вещах. Вы ведь все сами прекрасно знаете, что образование необходимо в настоящее время для всякой профессии. Необразованный человек всегда будет чем-то второго сорта.
В этом смысле меня очень огорчило, что вы написали в своем письме «хочем» вместо «хотим». Это показывает, что вы, ребята, очень мало читаете, так что не привыкли по-настоящему даже к своему родному языку. Поэтому читайте побольше — ведь это так интересно — и помните, что образование вам нужно не для школы, а для самих себя, и что быть образованным совсем не скучно, а наоборот — интересно. С наилучшими пожеланиями
Л. Ландау.
Лев Давидович отвечал и тем, к сожалению, все еще многочисленным людям, которые считают возможным совершать перевороты в науке (в том числе опровергать теорию относительности), не имея для этого никаких данных. В таких случаях, однако, Лев Давидович не считал нужным проявлять какое-либо сочувствие и не очень стеснялся в выборе выражений своего неодобрения. Вот несколько примеров таких его ответов:
Должен сказать, что Ваша рукопись лишена всякого интереса. Современная физика — это огромная наука, основывающаяся прежде всего на большом количестве экспериментальных фактов. Вы явно с этой наукой почти вовсе не знакомы и пытаетесь объяснить плохо известные Вам физические явления бессодержательными фразами. Ясно, что это ни к чему привести не может. Если Вы серьезно интересуетесь физикой, то Вам следует не заниматься открытиями, а прежде всего хоть немного обучиться предмету.
Современная физика — сложная и трудная наука, и для того, чтобы сделать в ней что-нибудь, нужно знать очень многое. Тем более знания необходимы для того, чтобы выдвинуть какие-либо новые идеи. Из Вашего письма очевидно, что Ваши сведения по физике крайне ограниченны. То, что Вы называете новыми идеями, есть просто лепет малограмотного человека, наподобие того, как если бы пришел к Вам человек, никогда не видевший электрических машин, и стал бы выдвигать новые идеи в этой области. Если Вы всерьез интересуетесь физикой, то прежде всего займитесь изучением этой науки. Через некоторое время Вам самому станет смешно читать ту чепуху, которую Вы напечатали на машинке.
Высказываемые Вами соображения, к сожалению, в высшей степени нелепы. Было бы даже трудно объяснить, в чем заключаются ошибки в Вашем письме. Ради бога, прежде чем рассуждать о Вселенной, приобретите хоть самую элементарную физическую грамотность, а то Вы только ставите себя в смешное положение.
Ваши заметки состоят из наивностей, не представляющих какого-либо интереса. Ясно, что если Вы хотите работать в этом направлении, то Вам для этого надо предварительно проделать немалую работу — познакомиться с предметом. Ведь вряд ли Вы сядете за руль автомобиля, не умея управлять. А физика ничем не легче.
Эту краткую подборку из писем Льва Давидовича уместно закончить еще одним его высказыванием о стимулах работы настоящего ученого. Признание результатов его работы в той или иной степени важно для всякого ученого; оно было существенно, конечно, и для Льва Давидовича. Но все же несомненно, что для него самого внутренним стимулом к работе было не стремление к славе, а неистощимое любопытство, неистощимая страсть к познанию природы. Такую страсть он в первую очередь ценил и в других. По этой же причине он всегда осуждал стремление работать только над «важными» проблемами.
Вы спрашиваете, чем заниматься в смысле того, какие разделы теоретической физики наиболее важны. Должен сказать, что я считаю такую постановку вопроса нелепой. Надо обладать довольно анекдотической нескромностью для того, чтобы считать достойными для себя только «самые важные» вопросы науки. По-моему, всякий физик должен заниматься тем, что его больше всего интересует, а не исходить в своей научной работе из соображений тщеславия. Заведомо не следует заниматься только вопросами, неразумно поставленными и поэтому лишенными научного интереса.
Никогда не следует работать ради посторонних целей, ради славы, ради того, чтобы сделать великое открытие — так все равно ничего не получится. Эту простую истину Лев Давидович никогда не упускал случая повторять.